 |
Отрывок из незаконченного романа "После восстания" (не вошедший в окончательный текст) |
  -фэндомский цикл -по мотивам Толкина -из старой прозы       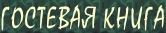    |
Петербург, ночь с 14 на 15 декабря 1825 года - Катерина Петровна! Катенька! Отворяйте пропащей душе! - Молодой человек, злой, веселый и усталый, в шубе с чужого плеча, отчаянно ломился в закрытую дверь. Мертвая тишина была ему ответом. - Да что они там, все вымерли, что ли? - недоуменно пробормотал он, отирая рукой пот со лба, затем еще раз стукнул и дверь неожиданно подалась, отворилась, - вероятно, и вовсе не была заперта, - воровать здесь было нечего. через пустую прихожую он прошел в полутемную гостиную, освещаемую лишь скупым огоньком единственной колеблющейся свечи, - комната была просторная, большая и оттого, что она была такая большая, спартанская скудость обстановки особенно казалась заметной, - простая потертая мебель, круглый дубовый стол, не покрытый скатерью, погасший камин в углу... Однако вошедший молодой человек совершенно не замечал очевидной бедности казенного жилья, - здессь он бывал десятки раз, и для него оно было согрето воспоминаниями о ранней юности и наивных несбывшихся надеждах. Впрочем, любой, кто огляделся бы в полупустой гостиной как следует, не мог не заметить многочилсенных занятных предметов, очевидно говоривших о вкусах и занятиях хозяина дома, - многочисленные модели кораблей на полках, развешанные карты далеких земель, какие-то диковинные заморские безделушки, раковины, тщательно отполированные куски кораллов; таинственные и страшные, но вместе с тем странно притягательные амулеты, - знаки чужой и непонятной веры, призванные, быть может, защитить этот дом от беды. Однако один из резных костяных божков на стене в полумраке нехорошо скалился и, казалось, что несчастье, пока еще невидимое, уже затаилось в щелях странно притихшего, замершего в ожидании дома... Вошедший покашлял и неожиданно громкий звук гулко отозвался под потолком. - Кто здесь? |
Безупречная блондинка - тонкая и стройная, в нежных чертах которой однако уже начинала проглядывать увядающая старая дева, поднялась из-за стола, на котором она раскладывала пасьянс, навстречу вошедшему.
- О господи, Мишель... вы? - Она смотрела, как на привидение, не узнавая или не веря своим глазам.
Только сейчас Мишель вспомнил, как он одет.
- Катерина Петровна, душенька, успокойтесь, это действительно я, а не призрак Александра Невского. Но мне пришлось переодеться. Пожалуйста, голубушка, не смотрите на меня так, - я живой, и на мне всего лишь старый мундир брата, а вовсе не саван мертвеца. Я пришел попрощаться. Вероятно, мы больше никогда не увидимся. Но я чертовски устал и буду рад, если меня накормят.
Девушка все еще смотрела непонимающе и прекрасные голубые глаза ее постепенно наполнялись слезами.
- Однако, - вдруг раздался смех из угла, - по поводу какого же это праздника вы, Мишель, решили устроить сегодня маскарад?
Старушка в белом чепце, чистенькая, аккуратная и умиротворенная, сидела за дубовым столом с недовязанным чудком в руках и книгой на коленях.
- Добрый вечер, Шарлотта Карловна, - гость прокричал приветствие прямо в ухо пожилой женщине и почтительно приложился к ее руке, - дело в том, что мы собираемся устроить домашний спектакль у нас дома на рождество, и я приехал к вашему сыну для репетиций.
- А... - удовлетворилась объяснением старушка, едва ли расслышавшая, впрочем, одно слово из трех, - театр, значит? Это очень хорошо... И приехал показаться старухе, которая тебя любит и помнит совсем еще мальчиком? Ну, молодец, молодец, не забываешь...
- Но где же ваш сын?
- Как?! - взвилась девушка, до сих пор лишь молча и растерянно плакавшая. - Да ведь я думала... Он разве не был с вами?
- Нет, - удивился Мишель. - Я его не видел со вчерашнего дня. Да его и на площади не было... Собственно, я полагал, что он давно дома.
- О господи, - простонала блондинка, нервно ломая тонкие пальцы и вновь заливаясь слезами, - что вы такое говорите? Вы, верно, нас обманываете? Если он убит, то так и скажите. Я ведь выходила на улицу, я видела, что творится... Ну, что вы молчите?
- В таком случае, вероятно, он еще на службе.
- Да? - спросила она. - А вы знаете хотя бы, который сейчас час?
- По правде говоря, - смутился Мишель, - нет, не знаю.
- Так вот, - с каким-то злым торжеством сказала девушка, - уже половина первого. Я полагаю, что в Адмиралтействе и в Штабе все уже давно разошлись.
- Да нет же, - снова не очень уверенно попытался молодой человек успокоить сестру, - возможно, оттого, что сегодня такой чрезвычайный день... Говорю же вам, что Константина не было на площади и вообще он был против всей этой затеи. Ему ничего не грозит.
- Какой странный, однако, у вас спектакль, - вмешалась недовольно Шарлотта Карловна, отрываясь от своего вязания. - И отчего плачет Катерина?
- Я, матушка, - повысила девушка голос, - играю прекрасную несчастную маркизу, которой не разрешают выйти замуж за бедного пастуха, а выдают насильно за старого и глупого графа, оттого я и плачу так горько. Но теперь пастух сам оказался переодетым графом, и все будет хорошо. - Улыбайтесь, - прошипела она сквозь зубы, обращаясь к Мишелю, и сама неестественно раздвинула губы, глотая остатки слез. - Улыбайтесь, у мамы больное сердце, я не хочу, чтобы она узнала преждевременно о несчастье.
- Все будет хорошо, вот увидите. Ваш брат не был на площади. Он должен вернуться. Он вернется, возможно, через несколько минут. Он вернется... - Мишель говорил, как заклинание, которому сам хотел бы поверить, но уже тревога вползала в сердце, истерзавшееся за этот долгий, мучительный и бестолковый день, и он сам чувствовал, как неубедительно звучат его слова. В неверном свете нагоревшей свечи языческие идолы, - кумиры далеких неведомых стран, - скалились по стенам в предчувствии несчастья, нависшего над беззащитной семьей. Глухая Шарлотта Карловна встревоженно переводила взгляд с гостя на свою дочь и обратно.
- Простите, - вдруг спохватилась девушка, - вы, кажется, сказали, что хотите есть?.. Да, конечно, вы голодны, вы... должно быть, целый день на улице... Я совсем ничего не соображаю. Сейчас...
- Подождите... - удержал ее Мишель за руку. - Не беспокойтесь обо мне. На самом деле я успел зайти домой и перепугать бедных сестер. Побудьте со мной. Давайте дождемся Константина.
Катерина Петровна вздохнула, покачала головой и вновь вернулась к своим картам, раскрывавшимся у нее в руках, как живые: красная масть - вернется, черная - не вернется, красная масть - обойдется, минует стороной беда, черная...
- Погадайте мне, Катерина Петровна, голубушка...
- Я сегодня, - шепотом сказала она, все так же неестественно улыбаясь, - нагадала дальнюю дорогу...
- Конечно, - с неожиданным облегчением засмеялся Мишель, - весной ваш брат уходит в плавание.
- Ну нет, - уверенно возразила девушка, - море всегда обозначается как дама червей, это я точно знаю, а там был валет пик. А валет пик - это вовсе не Моллер, потому что Моллер - это валет треф. Вероятно, это какой-то злой человек. Может быть, - добавила она, подумав, - это наш новый Император, - и испуганно зажала ладонью рот, словно не предполагала прежде в себе таких мыслей.
- Да что, в конце концов, происходит? - рассердилась Шарлотта Карловна. - Что эти дети от меня скрывают? Где твой брат, Катерина? - спросила она таким тоном, словно дочь была обязана это знать.
- Матушка, он в Адмиралтействе, - прокричала девушка.
- Как в Адмиралтействе? Да ведь уже час ночи.
- Его, наверное, вызвали к Министру. Ты же знаешь, мама, он очень близок с Министром и господин Моллер ему доверяет. Скоро Константин станет большим человеком и получит еще один орден. Он прекрасно делает карьеру. Папа был бы рад, если бы был жив. - От громкого крика горло у нее перехватило, и она вновь заплакала, с ненавистью давясь собственными слезами.
- Ага, - мудро заметила Шарлотта Карловна, вглядываясь в лицо дочери, - так, стало быть, твой граф все-таки оказался пастухом?
Легкие шаги послышались в коридоре - вернулся долгожданный хозяин квартиры.
Начальник Морского штаба Антон Моллер, уже два года временно замещающий заболевшего Морского министра Траверсе, так что в конце концов о нем и стали говорить, как о всесильном Министре, - огромный, грубый, плохо говоривший по-русски и не отличавшийся особым умом, действительно доверял своему старшему адъютанту в том прежде всего отношении, что незаметно переваливал на него всю самую черную и неблагодарную работу, а заодно и ответственность. Но, как ни глуп был Антон Васильевич, но и он ощущал ту невидимую черту, которую провел вокруг себя исполнительный молодой адъютант, черту, не позволявшую даже Моллеру заходить слишком далеко в своих притязаниях. Господин Министр одновременно и ненавидел своего помощника, и не мог обойтись без него. Что касается остальных штабных офицеров, то они старшего адъютанта откровенно не любили - считали его выскочкой, слишком гордым, высокомерным и замкнутым. Их раздражали его ордена, его чересчур быстрая и временами скандальная карьера, слава героя сражений и дальних экспедиций; его рассеянный взгляд, его вечное недовольство и бесконечные хлопотливые планы и проекты переустройства всего, что только можно и нельзя переустроить. Константин Петрович один позволял себе говорить начальству в глаза неприятные вещи, не признавал никаких компромиссов, не прощал окружающим их мелких человеческих слабостей, не желал потакать естественному тщеславию глупцов, и вообще упорно не понимал, чем отличается главный штаб от открытого океана. В душе многие радовались тому, что он вновь уходит на три года в плавание, и втайне, хоть и был это великий грех, надеялись, что слишком рискованная экспедиция никогда не вернется.
Однако в своем доме Константин Петрович, такой же тонкий, хрупкий, белокурый и голубоглазый, как и его сестра, являлся кумиром, вокруг которого вращалась вся жизнь маленькой семьи. Он был единственным сыном, единственным братом, единственным мужчиной в доме и единственным кормильцем: на его адъютантское жалованье, удвоенное после вояжа к Южному полюсу, они жили втроем в этой неуютной казенной квартире, поскольку почти никаких других доходов, если не считать крошечной пенсии за покойного отца, семья не имела.
Первой, однако, почувствовала приближение хозяина рыжая кошка, до того момента незаметно свернувшаяся где-то в углу. Сейчас она радостно выбежала навстречу, выписывая замысловатые восьмерки вокруг ног.
- Господи, - ахнула Катерина Петровна, и как-то робко подошла к брату, словно еще не веря своим глазам, - вернулся... Живой... - Она снова всхлипнула, протянула руки, обнимая брата, затем развернулась и помчалась было будить единственную в доме служанку, но видно раздумала и убежала сама хлопотать по хозяйству, и слышно было, как на кухне она вновь дала волю слезам.
Вошедший расцеловал мать, которая тут же дрожащим голосом принялась выговаривать сыну за то, что он слишком уж усердствует на службе и так окончательно подорвет свое и без того слабое здоровье, что ходит ночью зимой на морозе без шапки и в легкой шинели.
- Боже мой, да у тебя жар, - воскликнула она, целуя сына в лоб, - ты все-таки простудился.
- Да нет же, мама, я совершенно здоров, - у него был тихий голос, однако, чтобы глухая мать лучше его понимала, старался говорить очень отчетливо, - напрасно вы беспокоитесь. Просто устал немного - сегодня был беспокойный день. Разрешите мне переодеться.
Он обернулся и как будто только сейчас заметил своего гостя.
- Здравствуй, Константин, - сказал Мишель, не поднимаясь с места и машинально чертя что-то ножичком на столе, - вот, пришел попрощаться с тобой.
- Господи, - тихо сказал хозяин, как только что его сестра, - живой...
- Ну, конечно, живой, - рассмеялся Мишель. Он был еще слишком молод, чтобы принимать случившееся слишком близко к сердцу и переживать сверх меры. - Да что с тобой, дружище? Неужели ты предпочел бы, чтобы я был покойником?
- А братья? - словно игнорируя его вопрос, прищурившись, спросил хозяин.
- Я... не знаю, - опустил Мишель голову. - Мы расстались на площади.
- Так... - неопределенно сказал Константин, рывком расстегивая ворот мундира, словно он душил его, и еще дергая какую-то невидимую нитку на шее, - доигрались, в общем... Революционеры...
- Константин, - в ужасе слишком громко воскликнул Мишель, забывая, что рядом с ним сидит Шарлотта Карловна, - как ты можешь так говорить! Ведь ты же наш член! Ведь это же ты принял меня в Общество! Да если хочешь знать, сегодня - самый счастливый день в моей жизни. Я был рядовым и я выполнил свой долг, и не моя вина, что восстание провалилось...
Константин поднял крутившуюся у него под ногами кошку на руки и зарылся лицом в густой рыжий мех.
- Господи, Мишель, - спросил он тихо и как-то растерянно, - да ты, кажется, считаешь себя героем?..
- Ну... - смутился Мишель, - собственно, неудобно как-то так говорить о себе... Но все-таки я привел Московский полк на площадь, а ведь я служу в нем всего несколько месяцев... Я не вижу, чего бы я мог стыдиться.
- Значит, все-таки считаешь... Это странно, да... Может быть я опять что-то понимаю не так.... Ладно, подожди, мы еще поговорим. Мне нужно переодеться. Кажется, я и в самом деле заболел, но это пустяки. Шинель насквозь мокрая... Пойдем, Феня.
Пока Катерина Петровна возилась на кухне, а брат ее переодевался, Шарлотта Карловна жаловалась гостю на жизнь:
- Катерине-то давно замуж пора. Двадцать пять лет девке, а она все нос воротит, гордая. Двоим хорошим женихам отказала. Так и старой девой недолго остаться. Красавица-то красавица, а приданого ведь нет, и взяться ему неоткуда. В мое время девушку никто и не спрашивал - родители сосватали, и дело с концом. я и увидела-то своего мужа впервые за месяц до свадьбы, и рада была, что человек хороший, а чтобы там любовь какая, об этом и думать не смела. А она, вишь, - старушка таинственно понизила голос, - вбила себе в голову, что выйдет только за твоего старшего брата, за Николая, значит. Да она, видно, ему не нужна, он на Катерину и не смотрит... Уж ты бы поговорил с братом-то, что ли, может передумает он. Ведь тоже давно пора жениться, а?... Матушка, наверное, уж и не чает женить-то. Вот и женили бы. Ведь мы же с вами как одна семья, столько лет знакомы, а что разная вера, так это пустяки. У всех христиан Спаситель один. Ну, что же ты молчишь?
- Да ведь... - засмущался было Мишель, не в первый уже раз слышавший эти речи, - но сегодня казалось так странно, так неестественно говорить об этом... - Ну хорошо, - заключил он поспешно, - я поговорю с братом.
- Вот и молодец, - повеселела старушка, - уж очень мне хочется перед смертью внучат понянчить. На Константина тоже надежда плоха: с девушкой он помолвлен, с хорошей девушкой, - да ты ее знаешь, дочка шведского врача, - а свадьбу все отклыдвают. "Она, - говорит, - обещалась ждать меня из плавания". А плавание-то - на три года... Сколько же это лет порядочная девушка в невестах ходить будет? Так ведь и засмеют, ославят, у нас, сам знаешь, недолго... Да и вернется ли, Господи... Ведь целых три года и зимовать, говорят, где-то во льдах... Зачем, зачем ему эти плавания? Никто не знает, что я пережила в те два года... Получала открытки полугодовой давности из таких городов, о которых никогда и не слыхала, а за полгода-то в неизвестных краях чего только не случится... Глаз не смыкала ночами, все думала: "Может они разбились, затонули? Может, не дай бог, больной где-то лежит? Может, дикари съели?" Да, да, не смейся, пожалуйста, он сам мне рассказывал однажды про какого-то английского капитана, которого съели дикари пятьдесят лет назад, и никто не знает, за что... - Это была любимая песня Шарлотты Карловны: никакими силами невозможно было ее переубедить, что дикари, то есть язычники, едят христиан.
- Но ведь не съели же... - Мишель, действительно, не смог сдержать улыбку. - А во льдах и вовсе никакие дикари не живут... Не переживайте же, любезная Шарлотта Карловна. Право, все говорят, что Константин в счастливой рубашке родился, и в этот раз ему тоже повезет. Вернется - женится.
- Нет, вы мне не говорите, - рассердилась не то на Мишеля, не то на саму себя Шарлотта Карловна, как будто оттого, что позволила себе хоть в чем-то критиковать своего единственного, лучшего в мире сына, - нет, вы мне, пожалуйста, не говорите этого. Как будто моряк не может служить в Петербурге! И карьера прекрасная, и родным спокойствие и отрада. Служит же твой брат здесь, а если и плавает за границу, то только в Европу, - и умница, потому что мать свою уважает, хоть у нее и целых пятеро сыновей. - Она поджала губы и энергично заработала спицами, про которые совсем, казалось, забыла. - А моему подавай далекие страны, где одни язычники, прости Господи. Вот, понавез, - старушка сердито обвела рукой стены, где все еще скалились в предвкушении беды таинственные божества, - срам один. Да пристало ли доброму христианину такое в доме-то держать!.. Я бы выбросила, да Константин ни в какую не позволяет, - говорит: "Подарок вождя". Какой ни вождь, а все нехристь, - она торопливо перекрестилась и продолжила свои жалобы: - А сам-то уже три года у исповеди не бывал - где это видано! А что я могу? С ним невозможно разговаривать... У меня только один единственный сын, который, - чую я, старая, - разобьет мое старое материнское сердце!
- И единственная дочь, матушка, - подхватила ее речь Катерина Петровна, входя в комнату с самоваром в руках. Она пыталась улыбаться, но глаза все еще были заплаканы.
- Конечно, конечно, - закивала Шарлотта Карловна, - у меня всего двое детей и я так хочу видеть их счастливыми... Если бы не эти экспедиции...
- Будет вам, мама, - подошел переодевшийся Константин, - я же вам много раз объяснял, что это совершенно безопасно. Право же, риска не больше, чем в Петербурге, - но ведь и здесь случаются несчастья. Если будешь ждать и верить, как в прошлый раз, я вернусь. Да и что вы именно сейчас опять заговорили об этом? Не завтра и не через неделю ведь, кажется, уезжаю.
- Не кричи, - рассердилась Шарлотта Карловна, - я не глухая. Если ты родную мать готов променять на общество своих дикарей, то пожалуйста, я не имею никакого права тебе препятствовать.... Поезжай и будь счастлив. Видно, такая уж моя доля...
- И кстати, мама, должен вам заметить, что этот самый вождь, хоть и нехристь, а все же человек. И хотя и дикарь, а манеры у него получше, чем у некоторых офицеров Морского штаба.
- Конечно, конечно, - снова закивала, крестясь, Шарлотта Карловна, - конечно, человек, и дай бог ему здоровья, я зла ему не желаю, - а все же нехристь.
Константин лишь устало махнул рукой, - настолько нелепой и чудовищной сейчас казалась сама тема разговора.
- Что это вы натворили здесь? - нахмурилась Катерина Петровна, разглядывая вырезанный Мишелем на столе рисунок. - Вы, пожалуйста, нервничайте сколько вам угодно, - но мебель нам не портите: новую нам еще не скоро удастся купить. Постойте, да что это - крест, что ли?
Хозяин квартиры молча склонился над рисунком и вдруг побледнел, снова легким движением оттягивая какую-то нитку на шее, словно душившую его. Мишель смущенно разглядывал произведение своих рук. Это была традиционный сентиментальный знак моряков: якорь и крест, переплетенные вместе. Такими наколками обычно украшали себя гардемарины-старшеклассники, желающие показать свою удаль. Рисунок этот был и на руке у Мишеля, и у самого хозяина дома. В другое время они бы только посмеялись над этим воспоминанием ранней юности. Но сегодня эта глупая и трогательная дешевка приобрела, казалось, какой-то новый смысл: словно это был знак прощания с прошлой жизнью, со всем, что составляло до сих пор смысл их существования. Последний якорь на последнем причале...
- Символ первых христиан, - хмуро объяснил Мишель Катерине Петровне, - якорь - надежда, крест - вера. Надежда и вера - вот что должно быть вашею путеводною звездою в будущей жизни.
- Не верую, но надеюсь, - быстро прошептал Константин, дрожащей рукой откидывая длинную челку со лба. Он казался совершенно не в себе, и Мишель, усталый, но спокойный, смотрел на приятеля в легком удивлении, - ему, возможно, казалось непонятным, что может так волновать человека, не участвовавшего в сегодняшнем восстании. Разве что и в самом деле болен...
После ужина кое-как им удалось выпроводить встревоженную Шарлотту Карловну, все цеплявшуюся за единственного сына, как будто он мог сразу взять и исчезнуть, если она его отпустит: давно уже догадалсь, бедная, несмотря на все усилия, что от нее скрывают что-то недоброе, но все-таки ушла к себе, торопливо на ночь перекрестив детей и Мишеля вместе с ними.
Катерина Петровна все не уходила, тихо плакала в углу.
- Останешься на ночь? - спросил Константин своего гостя, не глядя в глаза.
- Останусь, если позволишь. На улицах патрули.
- Хорошо.
- Ненавижу, - вдруг подняла голову Катерина Петровна, истерически всхлипывая, - ненавижу вас всех. Ненавижу тех, кто судьбы страны берется переустраивать, а о близких своих и думать забыл.
- О чем ты, сестра? - побледнел Константин.
- Господи, ты еще спрашиваешь, бессердечный! Да ведь если с тобой что-нибудь случится, - нам же с матерью на другой день по миру идти, милостыню у чужих людей просить. Ни угла своего, ничего - все казенное, одни безделушки заморские! - Она, видимо, слишком долго сдерживалась и теперь кричала ве громче. - Уж лучше бы ты погиб в этой своей экспедиции - тогда, по крайней мере, нам дали бы пенсию. А теперь... - Она захлебнулась слезами ненависти и отчаяния.
Брат молча подошел к ней и резким движением наотмашь ударил по щеке. Она как-то сразу успокоилась и лишь тяжело дышала, глядя прямо перед собой широко раскрытыми глазами.
- Прекрати немедленно. Я еще жив и пока не арестован. Никакая опасность мне не грозит. Пойдем, Мишель.
- Боже мой, что с ними будет? - спросил Константин словно бы сам себя, когда они с Мишелем остались вдвоем. - Она права, прекрасная моя сестрица, господи, как же она права...
- Да подожди еще, - неуверенно возразил Мишель, - почему вы все как будто сами кличете в свой дом несчастье? Тебя не было на площади. Никто тебя не видел. Даже если вдруг узнают, что ты состояли в обществе - можешь быть уверен, что это узнают не от меня, - что же здесь такого? Да и всем знающим тебя членам известно, что ты монархист и был против восстания? Ну, продержат на гауптвахте...В чем серьезном тебя можно обвинить?
- Ну уж, братец ты мой, верно, найдут, в чем, - такова уж моя несчастная судьба. Знаешь ведь, как мне всегда везет. Ну, а ты-то куда теперь?
- Да, верно, попробую бежать, - в Архангельск, где у меня знакомые на рыбацких судах, а оттуда за границу. Надеюсь, повезет.
- А поймают?
- Что же, если поймают, - должно быть, расстреляют. Уж верно, что человека, первого выведшего свой полк на площадь, не помилуют. Но думаю все же, что не поймают. Я привык надеяться на лучшее.
- Счастливец. Ну, дай бог. А я так что-то крепко сомневаюсь. Но расскажи все-таки, что же произошло? Мне кажется, я видел тебя и братьев на площади...
- Разве... ты был там? - удивился Мишель.
- Н-нет... Но из окна Адмиралтейства очень хорошо видно, - поспешил ответить Константин, опуская глаза.
- Все оттого, - хмуро ответил Мишель, - что князь Трубецкой не явился на площадь. И Якубович... И ведь я еще накануне говорил Рылееву, что храбрость солдата и храбрость заговорщика - совсем не одно и то же.
- Вот как. Что же, - прищурился хозяин, - ты, стало быть, полагаешь, что уважаемый князь Сергей Петрович струсил?
- Ну... в общем, пожалуй, так...
- А... я? Что ты думаешь обо мне? У меня ведь тоже достаточно высокий чин и Рылеев ждал от меня содействия... Только прямо говори.
- Ты - другое дело, - подумав, ответил Мишель. - Ты был против с самого начала, а эти кричали громче всех. И потом, - смутился и покраснел Мишель, что при его здоровом уравновешенном характере, очевидно, было не совсем обычно, - ты не понимаешь, может быть, но для меня ты - это ты... - закончил он почти шепотом. - Это, наверное, твое природное свойство - всегда и везде идти против течения.
- Ну, спасибо, утешил, - усмехнулся Константин. Он все расхаживал неслышно по комнате, чуть приволакивая правую ногу, - то-то я весь день места себе не нахожу. Ведь против своих, против тех, кто доверял мне, пошел, понимаешь ли ты это? Остановить не сумел, предостеречь не сумел, убедить не сумел, - думал доказать всем проклятую свою правоту, - чтобы мне никогда больше не оказаться так правым! - а что доказал? - Он уже почти кричал и все метался по тесной комнате, резко разворачиваясь в углах, и в лунном свете, лившемся из окошка, его густые волосы казались расплавленным серебром, и серебряные же блики освещали бледное лицо. - Ну, что доказал-то? Не знаю, что вы пережили там, на площади, когда стрелять начали, - но что я пережил, стоя у окна, - не дай Бог никому... И боль, и стыд, и страх... И теперь, когда уже поздно, когда все позади, - думаешь только об одном: ведь если все равно арестуют, так уж лучше бы за дело, а так - за что? За чужие ошибки и убеждения? И никому уже - и самому себе тоже - никогда ничего не докажешь. Если ты был против - зачем вступал в общество? Если вступил в общество - зачем не пошел со всеми вместе, хотя бы из чувства товарищества? Если ты мученик и распят на кресте - где же твой терновый венец? Но прости меня, - спохватился вдруг он, - я говорю ерунду, а ты, верно, устал и хочешь спать...
- Вовсе нет. Я успел выспаться дома, - сонно возразил Мишель, невольно, впрочем, встряхиваясь от подступающей дремоты - здоровый молодой организм требовал своего. - Говори, пожалуйста.
- Да что говорить, - устало махнул рукой Константин, - теперь уже пустое дело. С самого начала все шло не так, как нужно, и стремилось к тому концу, к которому и пришло...
- Но почему? - отчаянно пытаясь понять старшего товарища, воскликнул Мишель, - почему ты все-таки думаешь, что был прав? Нет, ты не думай, я не смею осуждать тебя, это твое дело, - но подумай: если бы Трубецкой и все остальные исполнили свой долг, как положено, мы могли бы уже сегодня увидеть обновленную Россию! И ты был бы счастлив вместе с нами...
- Возможно. Но это сегодня. А что же потом, что же завтра, Мишель? Завтра вся чернь, лишенная привычной власти, поднялась бы и смела всех нас, и началась бы война страшная, гражданская... Еще кровь, еще насилие... Нет, погоди, - остановил он пытающегося что-то возразить Мишеля. - Я вот что думаю. Вот ты говоришь: Рылеев и вы все желали счастья России и потому пошли на площадь. И это правда. Я тоже желал счастья России и потому не пошел на площадь. И Император, наверное, тоже желал счастья России и потому приказал стрелять по собравшимся на площади. Все правы. Но почему же я во всех этих действиях не вижу искры божией? Где же Бог-то: ежели всемогущ, то почему допустил все это? Или, разве что, проспал весь день, утомился от трудов, родимый? Или эта наша грешная земля ему очень уж надоела и у него есть дела поважнее? Или весь наш род человеческий проклят?
Он снова зло рванул какую-то невидимую нитку на шее и перевел дыхание.
- Что это у тебя там? - спросил Мишель, воспользовавшись паузой. Его смутно тревожил этот странный разговор, в котором он далеко не все понимал, но чувствовал лишь, что его старшему другу плохо, а он не в силах его утешить.
- Это так, талисман, - не очень охотно пояснил Константин, - память об одной женщине.
- Карен? - Мишель знал, что так звали невесту товарища.
- Нет. Это давно... еще в экспедиции. Она вовсе не была праведницей, бедная, - он усмехнулся, - но ко мне была добра, а что еще нам надо в жизни, кроме глотка доброты? И всего-то несколько дней - любовь на островах коротка... Значит, ничего этого уже больше не будет - ни островов, ни плаваний, ни открытий, ни язычников-дикарей, которых так боится моя добродетельная матушка... Ни Северного морского пути... Что же, может быть, какому-нибудь другому смельчаку повезет... Доброго ветра... Ладно, Мишель, скоро утро, а мы так и не ложились. Пора собираться - тебе в побег, если ты действительно собираешься бежать, а мне, как ни странно, пока еще на службу. Я провожу тебя.
Они торопливо оделись и вышли в предутренний затаившийся город, где слабо тлели в свете наступающего рассвета костры на площадях, и конные патрули задерживали подозрительных прохожих. Вероятно, адъютантский мундир, штаб-офицерские эполеты и ордена Константина пока еще вызывали уважение, потому что их не остановили. Вскоре, однако, они должны были расстаться: Мишель собирался к какому-то дальнему родственнику, который обещал ему помощь.
- Ну, брат, - остановился Константин, - чертовски не хочется говорить тебе "прощай", а потому - пока до свидания. И прости, если можешь, за все...
Он резко повернулся, чтобы Мишель не видел его лица, и, не слушая больше ничего, быстро зашагал прочь.
ок. 1996 года