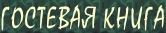Но все вы могли бы в меру своих сил не гнаться за отдельными целями, но идти к Цели – если бы только сумели ее разглядеть. Ближе всего к этому был, пожалуй, Морьо – благодаря его упорству и целеустремленности, пусть в Благословенных землях они и казались порой чрезмерными и неуместными. Я больше понял его здесь, в Белерианде. Да и он, кажется, - больше стал собой, там у него даже не было такой возможности. И я снова вижу в этом правоту отца, который привел нас сюда.
Я стал утешением отцу – в то время, когда он уже почти отчаялся найти себе помощника. Впрочем, я не переоцениваю свои силы и способности – всего лишь смазанный слепок с тех, что даны были ему. И первый шаг в наших отношениях, первая неслыханная роскошь доверия была снова за отцом, сделавшим мне роскошный подарок, тот, что и позволил мне стать тем, кто я есть. Он подарил мне свое имя. Он никогда не давал имен и даже прозвищ всуе, они всегда выражали суть называемого. Беда в том, что не каждый был готов прислушаться к этой сути, не каждый желал этого. Мои братья отнеслись к выпавшим им дарам с различной степенью пренебрежения. Они все предпочли эти смехотворные материнские прозвища – мне-то слышалась в моем почти откровенная издевка, ведь я довольно скоро понял, сколь непросты были отношения родителей. И все-таки я осмелился бы утверждать, что Кано отступил от своего признания дальше, чем, скажем, Турко – все-таки целью его и средством, да и любимым способом действия тоже, стала именно Сила. Поэтому я, хоть и подтрунивал над Стремительно Вскакивающим, называя его Ломающим Стулья или Опрокидывающим Лавки, все же в конце концов предпочел не упускать его далеко из вида. Мне были необходимы его мало рассуждающая удаль, готовность поверить тому, что ему объяснят достаточно убедительно – и сделать то, что из этого следует. Готовность делать что-либо не ради себя, но ради движения к Цели. Без долгих размышлений и уговоров. Легко. Конечно, я-то понимал это гораздо лучше чем он – а потому не удивительно, что вскоре в нашей, еще юношеской дружбе, я стал безо всякого сомнения старшим – поднявшись выше на две позиции, наверстывая пониманием внутренней сути то, чем обделили время и возраст.
Но главным для меня был и оставался отец. Его имя, которого я желал быть достойным. Его знания, с неизменным упорством и усердием передаваемые мне. Его похвала и одобрение. А ведь заслужить их оказалось совсем нелегко, даже сознательно предпочтя ученичество у него. Он снисходил к каждой мелочи и отмечал всякое несоответствие, в подробностях отмечая, сколь мрачными последствиями может грозить такая «мелочь» в будущем. Знаю, многим из тех, кто трудился рядом с ним – и большинству моих братьев, конечно же, казалось, что он всего лишь ищет причину постоянно быть чем-то недовольным и придирчив более необходимого. (...начиная опять-таки с тебя, братец, не так ли? Думаю, ты даже не стал бы это отрицать...). Я-то знал, что это не так. Да, трудно достигнуть совершенства, не отступив от него хоть на незаметную малость, - но что же делать, если сейчас необходимо именно совершенство? Я знал, что он поступает так не ради собственного удовольствия, но ради поставленной им цели.
Однажды я прямо сказал ему об этом. В тот раз мои неудачи были особенно явственны, и защититься было совершенно нечем. Но я вовсе не желал заслужить похвалу во что бы то ни стало. Я только хотел показать, что за моими неумелыми попытками стоит нечто большее, чем наивная надежда суметь все с первого раза.
Тогда он заговорил со мной совершенно по-другому. Я думаю, именно тот день и был истинным началом моего ученичества у него. К неподдававшемуся умению мы вернулись позже, и я смог пойти дальше собственных неудач, но это уже было не так важно.
С тех пор он говорил со мной... нет, конечно, не как с равным, такое было бы глупо даже вообразить! – но как с тем, кто способен понять по крайней мере значительную часть его замыслов. Он говорил о том, что стоящая перед нами Цель настолько велика, что может потребовать действий... которые, мягко говоря, заслужили бы удивленное непонимание большинства окружающих, включая, конечно же, хозяев Благословенного края. О том, что именно поэтому многое из совершаемого не стоит делать так и там, где они могут увидеть его, и то, что делается – им не открывать, а то и вовсе говорить совсем иное. (Я не люблю слова «ложь». По-моему, оно пристало тому, что делается исключительно ко вреду других или вовсе без определенной цели – одним словом, оно хорошо подходит к делам Отца Лжи, но никак не моего отца). И о том, кстати, что тот, кого в те безбедные времена Отцом Лжи еще (снова!) не называли, возможно, меньше всего был бы удивлен нашей манерой действия. Но именно ему следовало доверять менее всего. «Он мудр, - говорил мне отец, - но его цели слишком отличаются от наших. Он горд, но и мы горды не менее того». Думаю, случившееся позднее только подтвердило его правоту.
Но мой новый путь состоял не только в умении быть скрытным. Многое нужно было изменить в самом себе, попросту отказаться от многого, от той части себя, приземленной, привыкшей к счастливой неизменности, что не позволит двигаться дальше. Сознательно и самостоятельно отказаться от некой части своей души, которая поначалу может казаться слишком уж значительной! Я хотел бы спросить тебя, братец (и веришь ли, не ради очередной насмешки): сумел бы ты – так? Сам, без вмешательства воли другого, без дурной необходимости выбора между смертью и иным... неблагополучным исходом, именно и только ради стоящей перед тобой дальнейшей цели – отсечь часть себя? Я хотел бы знать, что бы ты ответил...
Я, как видишь, смог. И, без ложной скромности скажу – только потому, что делал это не ради себя. И не только ради наших грядущих свершений. В конце концов, прежде всего, - может быть, тебе это было бы ближе и понятнее? – я поступил так ради другого. В конце концов, только став вернейшим из верных последователей, я мог разорвать этот круг дурного одиночества, с рождения смыкавшийся вокруг моего отца. Тебе, единственному еще, старшему – а значит, любимому сыну, легко было об одиночестве мечтать и искать его – у тебя было иное! Его одиночество – да, иногда окруженное толпой, но каждый в ней разменивался, помимо следования за ним, на что-то иное, даже собственный отец!
Если быть честным, я вижу за этим некую злую волю, – но принадлежащую, боюсь, отнюдь не Исказившему Мир! Да, я верю, что Валар мудры и прозорливы! Просто их цели слишком уж не совпадают с нашими. Покой и неизменность. Сам мир должен измениться до грани гибели, чтобы они сами решились хоть ненамного изменить мир! А несогласные последовать за нами должны быть оставлены позади.
Но я был, в конце концов, готов оставить позади себя все, что должно. К тому времени я уже принимал знаки внимания от своей будущей супруги – и сам наслаждался возможностью быть щедрым в подарках и обходительным в общении. Наслаждался – и боялся, что это тоже придется оставить позади. Не в силах больше разрываться между двумя чувствами, я снова заговорил с отцом напрямую. Трудно даже представить, какое облегчение принес мне этот разговор. Когда я вспоминаю его, меня до сих пор переполняет столь всепоглощающе-теплое чувство, которое сам предмет разговора не вызывает у меня уже давно. Дело было не только в том, что он, конечно же, обо все уже знал. Он... снова хвалил меня! Называл более мудрым, чем мои старшие братья, порицая вашу непонятливость, и назвал меня истинным старшим сыном. Я был горд. А он, конечно же, - прав, хотя впоследствии именно ради наших общих дел я отдалился от супруги. В конце концов, он поступил так же. В конце концов, она исполнила то лучшее, что могла дать мне, пусть и в семикратно меньшем размере, чем наша мать. Рядом могли оставаться только сподвижники, а она не могла быть одной из них. Впрочем, не одна из женщин не смогла бы. Наша мать была из наиболее мудрых среди них, отец в свое время говорил и с мудрейшей, - но ведь ты знаешь, даже они...
Я предвижу возражение, братец, которое ты, пожалуй, изберешь, чтобы закрыться от нашей правоты. Тебе оно будет, наверное, казаться оправдывающим меня – только я не нуждаюсь в оправданиях! Ты, может быть, скажешь: вы – да нет, скорее даже «мы» - не представляли, какова будет расплата за избранную дорогу. Но я с самого начала ясно представлял, что придется платить. Хотя бы потому, что мир устроен так, как устроен, и хранящие его, как я уже не раз говорил – отнюдь не наши союзники. А на мне – да и на любом из нас! – нет той печати избранности, что лежит на отце и, возможно, спасет его там, куда он ныне пришел.
Но ведь с тех самых пор, как на темной скале возникла исполинская темная фигура, заслоняющая звезды – возникла, дабы предречь нам беды, поражения и бесчисленные несчастья, - с этих самых пор расплата стала неизбежной. Для всех, кто ушел. Ставят ли они себе какую-либо цель выше сиюминутной или просто стараются жить так, чтобы один день был не хуже другого. Но тем больше лежащая на нас ответственность. Успеть сделать все, что возможно будет успеть. Чтобы в итоге дать отчет не только Судье – но и себе самому, и хотя бы во втором найти утешение после приговора по первому.
Впрочем, было время, когда мне казалось, что ты понимаешь все это едва ли не хуже меня. Когда Исход только начинался, ты, похоже, принялся стремительно умнеть. Тогда, на отплывающих кораблях, даже братец Келегорм – простая душа! – вдруг озадаченно спросил (а берег уже был виден неотчетливо): «Подожди, так получается, мы не возьмем с собой Айканаро? ....И Ангарато – тоже?» Нет, он не думал протестовать или осуждать происходящее. Он просто не сразу до всего додумался. Это так на него похоже...
Ты не спрашивал и не сопротивлялся (второго я, признаться, опасался). Четко исполнял приказы, а почти все выдававшееся свободное время неподвижно стоял у борта, всматриваясь в даль. И ты не оглядывался назад, но с ощутимым даже со спины напряжением вглядывался в направлении востока, где лежала цель нашего путешествия. Ни одной лишней эмоции, только напряженное ожидание того, что грядет и готовность встретить его во всеоружии. Ты был мне даже симпатичен, хотя желанию подойти ближе и заговорить мешала некая оторопь. Но все было правильно. Именно так – не отвлекаясь и не рассуждая.
Впрочем, ты чуть не испортил создавшееся впечатление – уже на берегу. В том доныне пустынном месте, что теперь называют Лосгар. Глупость и прекраснодушие, да еще вырвавшиеся так поздно – братец Келегорм и то догадался в десять раз раньше! – «перевезти Фингона Отважного!». Впрочем, ты сам исправил свою ошибку, осознав ее. Совершенно верно – если не можешь действовать на пользу и в помощь – то хотя бы имей твердость отойти в сторону и не мешать. Иначе то, чему ты мешаешь, попросту сметет тебя.
Я не собираюсь осуждать тебя и за то, что происходило дальше. Битва-под-Звездами, рухнувшая на нас утрата, и вместе с ней – самостоятельность... Нет, все это недолгое время ты наконец-то пытался – лучше или хуже, но искренне – быть достойным сыном своего отца. Мне кажется, он даже успел это заметить. В конце концов, он удостоил тебя прощального подарка – передал тебе верховную власть. Впрочем, это такой подарок, который, – как данное мне имя – предстояло еще оправдать. Нет, я вовсе не хочу сказать, что ты – тогда, конечно же, - оказался его недостойным. О нет, и это решение о ложном посольстве... Оно было умным, я бы даже сказал – изощренным, в случае победы оно давало нам неслыханные преимущества... Однако оно не могло не включать изрядной доли риска, и судьбы всего ушедшего с тобой отряда, не исключая и тебя самого, угодили в эту долю.
Ты всего-навсего проиграл и должен был уйти с дороги. Нет, я вовсе не говорю о том, что, потерпев поражение, невозможно оставаться одним из нас – в конце концов, сам наш поход начался с поражения! Если бы ты вернулся тогда же, разбитый, с горсткой воинов, а то и вовсе один, неужели я отказался бы считать тебя братом или вместе размышлять о том, что можно сделать дальше – если бы ты сохранил свою тогдашнюю разумность?
Но ты не вернулся, Враг окончательно показал этими «переговорами», что ему нельзя доверять даже наполовину, надеясь его перехитрить, - а перед нами снова стоял выбор, когда нужно было пожертвовать чем-то. Ты всего лишь оказался этой жертвой, - хотя бы потому, что ей не могла стать та несоизмеримо великая цель, что привела нас сюда.
Да, это решение перед лицом второго морготова посольства, - на сей раз именно посольства, как ни странно! – принимал именно я. Явились они, конечно же, называя в каждом обращении имя Макалаурэ, но один его вид в те дни доказывал, что свалившаяся ответственность – не по нему, и ответ мы давали уже вместе. Точнее – его давал я от имени всех.
Может быть, ты думаешь, мне было легко? Не было, братец. Может быть, я почти ничего и не знал о Черной твердыне и ее хозяине, но я видел саму ее мрачную громаду, да и балрогов успел увидеть... И оценить, на что они способны – это, увы, увидели все мы... Я знал, что тебя ждет смерть, и смерть в мучениях, к тому же – вряд ли столь же быстрая и героическая как гибель нашего деда и отца. Я испытывал жалость. Потому что никогда не желал тебе подобного исхода – за отсутствием достаточных причин. Но я прекрасно знал и то, что иного выбора у тебя просто нет, а значит, нет его и у меня, и нет никакого смысла прислушиваться к лживым посулам Врага.
К тому же в моем решении тоже была немалая доля риска. Ведь, отказываясь следовать его условиям, мы претендовали на неповиновение, мы демонстрировали – хотя бы еще только на словах – некую собственную силу, несмотря на понесенные утраты! Что, если наш соперник решил бы проверить ее с помощью еще одной орды орков, в которых, он думаю не испытывал недостатка уже тогда? Выстояли бы мы – или разделили бы участь ушедшего с тобой отряда? И не было ли то, что нам не пришлось отбивать натиск превосходящей силой, лишь случайностью – не большей, чем твое поражение?
Или может быть, ты полагаешь, что я забыл о тебе, едва дав ответ посланцам Врага? Вовсе нет, братец. Неизвестность – дурная, но все же неизвестность, мучила меня, и я решился в конце концов на шаг довольно-таки опасный. Я пришел к старшему палантиру и вгляделся в него, сосредоточившись на Ангбанде – и на тебе. Стоит ли объяснять, сколь опасно было привлекать внимание Моргота и сколь легко, мало того, помимо моей воли, могло такое произойти! Поэтому мое бдение было недолгим. И совершенно безрезультатным – я не увидел даже тени сколько-нибудь ясного образа. Тем более – даже тени тебя. Черный владыка очень хорошо умеет скрывать за завесой дыма, тумана и недобрых чар не только собственные мысли...
Этот случай послужил мне уроком и достаточным основанием, чтобы до конца утвердиться в мысли: ты сгинул в этих мрачных глубинах навсегда. Моим попущением – можно сказать и так, хотя я лишь признал действительным уже существующий и неизменимый факт. Но даже этого было недостаточно для забвения. Мы все-таки были братьями. Другое дело, что я не позволял своим чувствам слишком уж разрастаться в душе и тем более выплескиваться наружу. Мы жили в незримой и негласной осаде, в местах незнакомых и полных опасностей, и позволить себе слабость хотя бы ненадолго было нельзя. По крайней мере мне – я знал, что сумею себя удержать, в то время как другие и не пытались скрывать свои слабые места.
Макалаурэ ходил совершенно кислый, даже песенки его почти прекратились, и уж я-то знал, что не по отцу он скорбит и не гибель Дерев оплакивает. Теперь Кано его можно было бы назвать только в насмешку – что я и делал время от времени, надеясь взбодрить брата. Он все-таки был теперь среди нас – хотя бы по годам – старшим, и это следовало соответствовать. Однако колкости не помогали, и пришлось побеседовать с ним напрямую.
- Мне хотелось бы знать, почему ты так печален – и заметь, довольно давно, братец.
- Ты наверное, и сам знаешь, почему. – Он старался не смотреть мне в глаза.
- Ты ошибаешься. Я знаю, «кто», а вот «почему» как раз и не понимаю. Может быть, для тебя это и очевидно, для меня – нет. Объясни, будь добр, любезный братец.
- Мы предали его, - глухо изрек он, глядя в пол.
- Да, предали, - согласился я. (Может быть, он ожидал, что я буду возражать?). – Уже предали. И вряд ли сумеем в том что-то изменить. Тем более теперь. Или может быть, ты хочешь сам взяться за это? Отправиться к Морготу и объявить, что лично ты – передумал? Думаешь, он отдаст тебе брата – или то, что от него к нынешнему времени осталось? (Если осталось…)
Моя последняя фраза могла звучать очередной колкостью, едва ли не жестокостью, но была лишь выраженный вслух собственной догадкой. Уже тогда я знал об орках достаточно, чтобы подозревать их в самом худшем. И с тех пор мое мнение о них лучше не стало, да и ты бы, наверное, с ним согласился…
Впрочем, братца Маглора это в любом случае не взбодрило. Пришлось продолжить с ним разговор уже не о глубоких корнях его печали, но о более важном. О том, зачем мы все-таки оказались здесь, и что именно эта цель – о, всего одна из промежуточных целей! – от нас требует. О той немалой ответственности, что лежит на нас, сыновьях своего отца – перед всем народом и даже перед теми дикими синдар, в земли которых мы пришли. Об ответственности, что не минует лично его – старшего, «...по крайней мере, хоть по годам», добавил я. Он ритмически кивал, со всем соглашаясь, ничуть не меняясь при этом в лице.
- Что же, ты согласен со мной, - заключил я. Не стал даже добиваться произнесенного вслух согласен, хотя нелегкие размышления о его вменяемости этого просто-напросто требовали – хоть такого подтверждения. – Так почему же тогда, я еще раз вопрошаю тебя – почему ты не можешь ни на крупицу отрешиться от своих без меры разбушевавшихся чувств?!
Он ответил не сразу и, как показалось мне сначала, не о том.
- Понимаешь ли, брат, нас все-таки всегда было двое... Тебе, может быть, это покажется странным, ведь все – даже все вы – замечают прежде всего то, насколько мы различны. Но это именно так... это было.... это все-таки именно так, если ты понимаешь меня.
Я продолжал оставаться при мнении, что объединял их, помимо общей начальной тенгвы имени, только больший промежуток времени, прошедший до рождения братца Келегорма. А он между тем продолжал.
- Я не то чтобы привык... Я просто жил с тем, что нас двое. Столько, сколько я себя помню – ну да, он-то старше... И вот – остался один. Ты, наверное, даже не можешь представить, как это. Но попробуй, прошу тебя. Вот если бы... Вот представь, если бы у тебя однажды вместо двух рук осталась всего одна – как бы ты жил тогда? Ты бы смог жить?
Я никогда не жаловался на бедность воображения. Поэтому мне хватило и пары мгновений, чтобы тряхнуть головой и решительно заявить, что я не намерен даже воображать подобную мерзость.
- Но ты же все равно понимаешь, о чем я говорю... – ответил он, наконец-то глядя на меня – огромными и все столь же бесконечно грустными глазами.
Тогда я понимал прежде всего то, что поэтам, наверное, следует лучше обдумывать те метафоры, что родятся в их душе, прежде чем представить их на суд прочих. Но дальнейшие события привели меня к еще одному соображению: похоже, поэты и подобные им способны почувствовать гораздо более, чем осмыслить. Я не мог не подумать об этом, когда слушал вестника из лагеря нолфингов. Необычайно сильным было желание напомнить самому Макалаурэ о его словах – но время было не то. Я сам с трудом удерживал в себе горючую смесь ошеломления, неприятия и чистейшего гнева. А по лицу братца можно было прочесть, что уж он-то точно сейчас не думает ни об этих своих, ни о каких иных словах: в голове его, похоже, летали и сталкивались обрывки мыслей размером не более одной тенгвы (а то и мельче).
А ведь он и тогда что-то почувствовал – более чем заранее... И, пожалуй, стремительное появление и вовсе уж молниеносное отбытие из нашего лагеря Финдекано было тут ни при чем. По крайней мере, не являлось непосредственной причиной. Столь же фатальная... нет, даже не грусть, а какая-то придавленность к земле поразила Макалаурэ несколькими днями позже. Я спрашивал его – уже после прибытия посланца и даже позднее: что произошло с тобой? Ты предчувствовал? Ты знал? Хотя бы – надеялся снова увидеть его живым?
- Живым? Нет! Нет. – Отвечал он, с видом внезапно разбуженного. На слове «живым» его передернуло.
Более определенного ответа я так и не добился. Что ж, не столь уж важно. Он не лгал. Он вообще не умеет лгать. Скорее всего, все было именно так, как я и вычислил: почувствовал и не осмыслил. Самому-то, наверное, казалось, что хочется сложить какую-нибудь песню в память о брате, да никак не складывается...
Впрочем, спрашивал я действительно после и погодя. Когда сам сумел успокоить все вскипевшее во мне. Ведь тогда, после отбытия посланца я, сделав все нужные заключения и распоряжения официальным тоном, быстрым шагом отправился на поиски места, где меня никто не мог бы увидеть. Там я сумел наконец позволить себе то, что хотелось сделать уже давно: упасть с размаху, всем телом на землю, с силой ударив в нее кулаками. Я не позволил себе только кричать – то, что рвалось из груди, вышло бы слишком громким. Мне хотелось кататься по земле и грызть ее. По земле, которую только что одним ударом выбили из-под моих ног. Ты выбил, ты – мой самый старший брат!
Меня захлестывал гнев, я хотел бы назвать его бездонным и беспримесным, но ведь я так до конца и не научился лгать себе – ведь то, что я говорю сейчас, говорится не тебе, а лишь самому себе. Это были гнев и обида. Зачем ты вернулся – живым, как ты посмел вернуться?!?!
Пусть я не знаю, что именно пережил и как выжил ты (а я действительно не могу представить это, а спросить тебя так, чтобы это получился лишь очень откровенный разговор и ничего больше – уже не смогу). Но знаешь ли ты, что пережил я?
Думаешь, я не понимал, что делаю, и как это называется? Это моего простоватого брата да так и не повзрослевших покуда Близнецов можно убедить, что предательство не называется предательством, а подлость – подлостью. Стоит только сплести достаточно искусную речь, а я успел научиться от отца и этому непростому ремеслу. Их души неглубоки. Они поверили речам о настоятельной необходимости и соображениях выживания – или очень захотели поверить. А Морьо всегда мыслил только категориями пользы да целесообразности и никакими иными.
Но Макалаурэ я переубедить не мог да и не пытался – только призывал к порядку. Нас объединяло то, что мы оба понимали, что совершаем. Знали – не от других, но вычитали в тех глубинах собственных душ, что могут внимать мыслям мудрейших мира – не исключая и Единого.
Да, подлость. Корысть. Предательство. Я совершал их сознательно, и в час ответа не смогу ничем загородиться. Я знаю об этом. Настолько, насколько, живой может представить участь мертвого – готов к этому. В конце концов, я решился, совершил и пережил то, что говорил мне голос собственного сердца и уста всех прочих. Мне было тяжело. Я не мог отсечь и эту часть души, как когда-то – одним ударом, словно острейшим клинком, потому что каждый день напоминал мне о сделанном. И при этом нужно было жить дальше, осваиваться на новоприобретенных землях, думать, как именно (и куда) идти дальше. Некоторые говорят, что годы до появления Светил были лишь прозябанием, и если бы не эта величайшая милость Валар... Пусть говорят. Для меня они были таковыми меньше всего. Да и измениться что-то должно было, хотели этого в Валиноре или нет. Я чувствовал это. Я ждал. Я закладывал некую благую неожиданность в свои расчеты – и она совершилась. Я знал, что та же надежда была в сердце моего отца, а он не мог ошибиться, его предчувствия приходили только оттуда, где известна вся истина. Но ведь кругом меня ничто не напоминало о реальности этой надежды! Мы устали от постоянной темноты и огней, и время, казалось, забыло, что нужно куда-то двигаться. А с ним, кажется, застыли и мысли – сегодня те же, что накануне... те же, что в день, когда были сказаны слова: «И передайте Владыке Севера так...»
Мне действительно было тяжело, понимаешь ли ты, для этого вовсе необязательно оказываться в лапах орков и балрогов, достаточно – во власти собственной души! Неужели я не заслужил хотя бы небольшой награды?! Личной, только моей, помимо того, что наш народ действительно не отступил – и не был уничтожен!
Я верил, что заслужил. Я получил ее – казалось, навсегда (или – хотя бы до того времени, пока жив сам). Она утешала меня, давала возможность сделать еще один вдох и не стискивать бесконечно кулаки...
Я знал, что никогда не посмотрю в твои глаза.
В глаза того, чьей жизнью я пожертвовал, даже не узнав до конца, как именно совершится жертва – для тебя.
И знал, что покуда это будет верно, я смогу жить.
Так почему же, чьей волей, чьим попустительством ты посмел вернуться?!...
Я был вне себя. Или – не в себе, и довольно долго (сколько – не сумею сказать в точности, что еще раз подтверждает само состояние). Макалаурэ, случись ему увидеть меня тогда – скорчившимся на земле и время от времени что-то бормочущим, решил бы, наверное, что он меня понял. И понял бы – неправильно. Потому что он, конечно, ушел дальше первого чувства – ошеломления нереальности, где остановились почти все прочие. Но споткнулся на втором – ужасе той же нереальности, который только и мог вызвать сам рассказ о спасении со скалы и уплаченной цене. Он, кажется, еще говорил с посланцем наедине, но совсем не на пользу себе, судя по дальнейшему. Его видели бредущим, не замечая никого, в сторону озера, - а затем только на следующее утро, похожим на способного к здравым рассуждениям и поступкам только издали.
Но я прошел дальше на один шаг. До причины. До каменно-непреодолимого «зачем». Мне было хуже.
Я сумел успокоить себя – хотя бы внешне, решившись вернуться мысленно к словам того же посланца. О, если запастись хладнокровием созерцателя, зрелище было прелюбопытное! Он не рассказывал, но словно говорил наизусть выученный текст, довольно длинный, где простота рассказа сменялась витиеватостью обращений и прочих церемоний. Вряд ли он плохо владел искусством сложения речей. Но думаю, если бы он позволили бы себе говорить свободно, у него самого бы почернело в глазах. Не лучшее состояние для первого – ведь получилось именно так! – официального посланца Финголфина к нам, сыновьям Феанора. Так что я не считаю это упорство достойным хотя бы насмешки.
И хотя, следуя за его словами, желающий мог бы дойти до полного расстройства чувств (пример был у меня перед глазами), но я обуздал себя ими же. Напомнил себе, мысленно повторив нужные моменты дважды и трижды: состояние твое, судя по всему, хуже некуда – от вежливого предложения перевезти тебя в наши жилища посланец отказался с совершенно неофициальной скорбью в голосе, да и всяческими прочими способами намекал, не желая говорить прямо, что положение может измениться в любой момент... Я вовсе не желал тебе смерти, брат. Просто – снова – напоминал сам себе об очевидном. И потом, при любом исходе – ты был еще далеко. На другом берегу озера, преграды надежной и достаточной. Все это затеплило во мне малую надежду, которая старалась покуда не заглядывать в будущее, чем и жила. Мне еще не нужно было смотреть в твои глаза.
...И, как оказалось, не пришлось смотреть в них еще долго, редкие новости с того берега еще долго не приносили ничего определенного – ни соболезнований, ни ликования. Потом до нас окольными путями добралась история, как Финдекано, отчаявшись отсутствием результатов, разогнал всех целителей... ...а когда на тот берег, не выдержав дальнейшей неизвестности, отправился (верхами, в объезд озера) Макалаурэ, - прогнал и его. Впрочем, если первые расходились, как передавали, постепенно, зато насовсем, то второй оказался куда более упорным. Ему, наверное, нравилось, отправляться в путь, заранее не сулящий в конце ничего нового. Или, может быть, предмет угрызений казался ему недостаточно близким к себе. Мне-то для того, чтобы запастись невеселыми размышлениями на весь день, не нужно было покидать южный берег озера, ставший «нашим».
И так продолжалось достаточно долго. Ты, похоже, не стремился увидеться с нами, брат. И в этом наши цели совпадали. Покуда совпадали. Но ведь за этим нежеланием без малейшего труда можно было видеть и иное: какие бы печали не случились за это время, мой братец вряд ли поглупел. По крайней мере, должен не хуже меня понимать то, что понимаю я. И не собирался забывать об этом. Судя хотя бы потому, что, единственный раз за эти годы, ты сумел, даже не показываясь на глаза, обошедшись посланцами, ударить так, что не заметить боль оказалось невозможно: еще не будучи в силах, как передавали иные, без чьей-либо помощи выбраться из дома, ты распорядился верховной властью.
Уже не принадлежавшей тебе.
Уже немалое (и непростое, заметим) время принадлежавшей нам.
Ты думаешь, я сражаюсь с тобой за первенство, снова стремлюсь сделаться – самым старшим?
Успокойся, я уже «воистину старший» - мне достаточно для этого слов отца.
Но, отказываясь от власти, ты, как ни странно, показывал нам – да так, что даже на нашем берегу было видно яснее ясного! – что над нами ты надеешься эту власть сохранить.
Раскаиваясь – там – за деяния совершенные нами – всеми нами, заметь! – давал знать, что можешь потребовать раскаяния и от нас, и отнюдь не только те, которые были рады услышать Нолофинве и его подданные.
Да, вражда наших народов была торжественно предана забвению, и я вовсе не собираюсь говорить, что это было глупостью: это было необходимостью. Такой же, заметь, как необходимость в свое время торжественно предать забвению и чужой воле – тебя. Нам предстояло жить на одних и тех же землях и глупо было бы рассчитывать отправить наших соседей туда, куда мы не пожелали отправляться сами. Наши текущие цели (я, конечно, не говорю о той, великой) если и не были общими, то во многом совпадали.
Но ты-то – ты был совсем другим случаем! Ты ничтоже сумняшеся занял место, уже не принадлежащее тебе, приготовившись, возможно, требовать от нас то, на что уже давно не имел никакого права! Мне было все равно, сам ли ты додумался до всего совершенного или сделал это по наущению Финдекано, как говорили многие горячие головы, начиная от братца моего Карантира. Мне не было до того никакого дела, но в таком случае он оказался лишь достойным сыном своего отца (что стоило выпросить у тебя, еле живого и спасенного им, власть для себя?!), а я не могу не уважать это. Но дело было действительно не в нем.
Да, тот день, когда мы пришлось прочесть письмо, написанное столь неожиданно узнаваемым, предельно кратким и лишенным украшений, твоим стилем - и совершенно незнакомым почерком (было, знаешь ли, предположение, что писал его Турукано), вновь был для меня черным. Впрочем, меня снова успокоило время. Время – да ты, братец, снова не подававший никаких признаков внимания к нам. Но я знал, что день, когда мне все-таки придется посмотреть в твои глаза, может настать сколь угодно неожиданно, и я должен быть готов.
Готов - сделать так, чтобы ты, даже будучи рядом, не сумел бы поднять взгляд на меня.
Я ведь тоже хотел – жить.
Как тебе не покажется странным, твои первые короткие появления у нас – наши первые встречи после не были для меня чем-то судьбоносным. (Это по Маглору можно было сразу увидеть, в какой же день его наконец пустили дальше ворот – хоть он и промолчал по возвращении об этом…)
Для меня то, что действительно важно, оставалось впереди – в том времени, когда ты уже не будешь прятаться от нас. А покуда – подготовка, пристрелка, проверка предположений… Напряженное ожидание. Быстрые взгляды, которые должны ухватить как можно больше – пока не встретились с другим взглядом. Подготовка к решительному сражению.
Оно ожидало меня во время нашего путешествия на восток, к новым землям. Избранным опять-таки тобой, но – заметь, я не собираюсь этого отрицать, - не без доли здравого смысла. Там, у озера, все-таки было слишком близко до тех, в чьи глаза мы тоже когда-то надеялись больше никогда не посмотреть.
Когда близишься к исполнению того, что замыслил, когда остается лишь одно, но самое решительное и сложное усилие, все прочее поневоле отходит на задний план и размывается. Ему приходится отойти. Потому для меня не существовало ни красот весенней природы, ни новизны сменяющихся пейзажей, ни опьяняющего чувства свободы и подвластности тебе всего, что вокруг… Об этом я узнал от других и позже. И не преминул заметить дорогому брату Келегорму, что его воле было подвластно в основном то, что слева – справа очень уж недалеко начинались владения Тингола, надежно огороженные стараниями его супруги.
У меня же была тогда лишь одна цель – она же была единственным средством достижения самой себя. Найти границы твоей слабости. Невозможности. Беспомощности. Найти – и показать тебе, но так, чтобы увидели и все прочие. Чтобы ты не мог и дальше ее скрывать.
Им ведь было любопытно, брат. Именно – любопытно. По крайней мере, Первый и Второй Рыжий взирали на наконец-то оказавшегося вблизи просто Рыжего (впрочем, с некоторыми цветовыми добавлениями…) с широко открывшимися глазами и целой горой вопросов, роившихся в головах. И являлись с ними – ко мне (крепко затвердив себе за эти годы, кто – над ними): «А как же он…» Подразумевая: «А как же он – теперь?»
И я даже не сказал бы, что подстрекал их ко внезапным появлениям в неожидаемых тобой местах и вопросам, лишенным такта. Например, я честно и прямо ответил им на вопрос касаемо облачения в доспех: Макалаурэ все-таки не умеет лгать и увертываться. (И потому ему нельзя говорить с послами. Чьими бы то ни было. Заметь это.) А вот проблему залезания на коня отправил выяснять самолично. Хотя бы потому, что не знал точного ответа – только несколько версий, моих предположений. Одно из них, как выяснилось, не отступило от истины, но следует быть честным.
А им хватило развлечения более чем на неделю – высматривать сначала, и пробовать самим – затем. Держась за гриву одной рукой, не держась ни одной, подпрыгивая с места прямиком в седло, пытаясь заставить коня лечь… То, что никто из них не покалечился, следует отнести только на счет чрезвычайно доброго отношения коней к своим юным и резвых хозяевам. И то хорошо. Хватит с нас и одного… неудачного исхода.
О себе могу сказать только одно. Нет, не в оправдание: не говорил ли я уже, что оправдываться не собираюсь за бессмысленностью этого занятия. Для того, чтобы ты хоть немногим больше понял. Так вот: думаешь, все это было мне приятно?
Я ведь до сих пор не изменил мнения, высказанного когда-то Макалаурэ. Я и впредь бы не пожелал представлять себе что-то подобное. Столь явный отпечаток Искажения. Не представлял бы – если бы это Искажение не находилось почти постоянно перед моими глазами.
Впрочем, это снова – не главное. Я не братец Келегорм, словно зарекшийся в те времена высказываться о тебе по любому поводу иначе чем: «Но это же некрасиво!» Я перетерплю и не покажу вида, ежели только нужно. Но избранная цель требовала именно показать. Впрочем, для ее выполнения было достаточно средств. Тот же братец Келегорм, которого не требовалось долго уговаривать, скажем, предложить тебе помощь. Он отправлялся и предлагал ее – в своей обычной манере, то есть так, что, скорее всего, отказался бы даже я. Или же – зазывал тебя на какое-нибудь развлечение на манер охоты, от которого ты, конечно же, отказывался… Способов было достаточно, случаев их применения – еще больше. Ты не раз оказывался у края собственного терпения, и у предела сил. Впрочем, иногда я просчитывался, недооценив твои силы. Ты все-таки не зря провел эти годы. Я признаю это.
Признаю и то, как ты наверняка оцениваешь то, что претерпел от нас, покуда не достиг земель, продуваемых ветрами и открытых к северу. Земель, носящих теперь твое имя. Самое верное слово было бы даже не «подло». Мерзко. Играть на твоей слабости, на том, что – представь я подобное в отношении любого из тех, кто сейчас вместе со мной, первым предпочел бы не замечать.
Но ведь она все-таки вернулась, и черный день грозил превратиться для меня в черные года. Вернулась моя обида, ведь воистину вернулся теперь к нам и ты - наконец-то, и я видел теперь этот взгляд, где мог прочесть все то, что и сам знал о совершенном мной. Все мои мысли, и ни одной твоей, но теперь они звучали для меня приговором. Мне необходимо было заставить этот взгляд померкнуть и поникнуть.
…И знаешь ли, чем ты все-таки купил меня, братец? Купил, как запасливые Наугрим – нашего не менее запасливого братца Карантира, заставил, конечно, не уважать и не любить: о втором было рано говорить, первого же не было никогда... (И как раз примерно к тем временам, когда первые караваны насельников Ногрода и Белегоста направились в наши земли – тогда или немного раньше). ...Вынудил считаться с твоей силой. В конце концов, с твоим правом на существование.
Именно тем, что ты ничего не забыл и понимал все не хуже меня. Оценивал в тех же словах. Не мог и не желал обратить к нам, твоим братьям, ничего, кроме обжигающей холодности. Предпочел бы не видеть нас вовсе и не упускал случая последовать своему предпочтению. Похоже, что мы умерли для тебя – так же, как когда-то ранее – ты для нас. И обе стороны не собирались вновь признавать друг друга живыми, несмотря не то, что «дорогие покойники» дышали теперь одним воздухом и ходили по одной земле.
И при этом – ты даже не попытался притвориться, что все обстоит по-иному. Не требовал фальшивых братских чувств – ничего, кроме весьма натянутой вежливости. И не требовал раскаяния – думаю, не из великодушия даже, а просто потому, что не смог бы принять его. Потому что оно не могло быть искренним, а, следовательно, не могло ничего изменить.
Это и было для меня главным. Прочее я лишь отмечал – как могущую оказаться полезной информацию. То, например, что, не имея теперь возможности быть мастером, ты оказался неплохим архитектором – я не без удовольствия приезжаю на Химринг и остаюсь погостить, тебе это известно, и виновны в этом вовсе не обитатели замка, без которых удовольствие было бы еще большим. Ты стал правителем. Стратегом. И даже – воином. Ведь путешествие на Восток, говоря откровенно, вызывало у меня сомнения в такой возможности. Но после Дагор Аглареб впервые прополз тот шепоток, что сложился в слова «белое пламя». И мой озадаченный братец вновь задавался при мне вслух вопросом: «Может быть, он и уродился левшой, только не знал об этом?…» Быть может все. Вот и он, например, не знает о себе до сих пор многое из того, что известно мне…
Я думал, что отныне могу быть спокоен за наши отношения с тобой, а точнее – за нашу видимость отношений, братец.. Стена прочна и преодолеть ее нет желания ни с одной из сторон. Я даже перестал испытывать некое неудобство вблизи тебя, поскольку не ожидал ничего непредсказуемого. Тем неожиданнее был для меня наш недавний разговор. Нет, ты не ударил – всего лишь уколол, но игла тоже оказалась из тех, что невозможно не заметить.
Меня, если быть откровенным, раззадорило то, что с самого приезда я даже не почувствовал особой холодности к своей персоне – всего лишь изрядная доля невнимания, не больше. Один из гостей, малознакомый и потому неважный, вот кем казался я себе, отражаясь в твоих глазах. А мне был нужен слушатель.
Тебе ведь известны мои отношения с Наугрим – установленные в определенном смысле в пику Морьо, который, кажется, сам стал гномом, общаясь с ними. Что ж, он прекрасно впишется со столь обожаемым своим прозвищем от нашей матушки в один из их родов: почему там, где с гордостью именуют себя Длиннобородыми, Каменногими, а также Широкозадыми, не появиться и Краснолицему?
Я же счел невозможным отступить от того, что я есть и чему посвятил себя, даже ради дружбы – и тем обрел ее. Обрел, оставаясь тем же нолдо, что был. А поэтому я не мог не попробовать пробраться в хитросплетения их полусекретного языка. И не только потому, что, узнав слова, я найду путь в их души. Слова, смыслы, хитросплетения значений и звучаний – столь же дружественная для меня стихия, как и вода, - с тех самых пор, как плавать в той и другой научил меня отец. Но не каждому быть прекрасны пловцом – кому-то проще и приятней отправиться в горы или в лес. И Аглон – именно такие горы. Это Химринг – для жизни, Аглон же – для войны, пусть даже захватывающей души войны-охоты. Я едва ли не одинок там со своей любовью к слову – тебе, наверное, странно слышать о моем одиночестве, братец?
Мне, между прочим, до сих пор удивительно, что это увлечение не вошло в круг твоих занятий. Ведь для него вовсе не обязательно держать перо правой рукой. Но ты и в этот раз не прояснил мне ничего, отговариваясь чем-то смехотворным вроде того, что не сумеешь выговорить ни одно наугримское слово, не запутавшись и не забыв его на середине. Ты отговаривался, но не уходил от разговора, напротив, подавал время от времени реплики, если и не вслушивался в говоримое, то, похоже, получал некоторое удовлетворение от самого процесса общения… Одним словом, наш разговор оказался едва ли не из тех, что можно назвать приятными и доброжелательными. Может быть, и потому, что ты почти не смотрел в мою сторону, братец. Ты задумчиво созерцал поверхность стола, но видел на ней, скорее всего, нечто ведомое лишь тебе одному.
А разговор прихотливо тек и, едва ли не повинуясь твоим вопросам и репликам, постепенно перешел на отношения с гномами. Мне было что сказать и здесь. Я говорил о дружбе, что лучше торговли, о том, как именно мне открывают многое из того, что Карантиру не узнать никогда, хотя бы у него выросла борода длиннее Азагаловой…
Ты оторвал взгляд от прожилок полированной древесины. Я не отвел глаза, потому что в нем было едва ли не любопытство – и что-то еще, так и не определенное мной, - но, по крайней мере, не враждебность.
- И тебе не совестно при этом, брат, - ты говорил, а взгляд прощупывал меня до малейших подробностей, - брать с них плату за охрану дорог и безопасность их путешествий? Я знаю – не на Аглоне (там у вас цветут ученые разговоры), и чаще – руками Келегорма… И все-таки?
Это был момент скрестившихся взглядов, пусть – не уходивших дальше поверхности (по крайней мере, я об этом позаботился), и все же – глаза в глаза. А ты продолжал:
- Что же ты сделал с собой, брат, чтобы стать – вот таким? Что?
И – словно бы продолжающее слова молчание, во время которого ты полуприкрыл глаза. Как будто опущенными ресницами можно смягчить то, что сказалось за тем:
- Мне… жалко тебя.
Я ожидал за этим уж чего угодно, но не последовало ничего. Итого - вроде бы совсем немного, особенно если считать количеством слов. Всего лишь короткая вспышка. Ты не был настойчив, ты снова опустил взгляд и даже добавил что-то вроде: «Впрочем – как знаешь…»
Но выпад был для меня слишком неожиданным. Я смешался. Враждебность, проявившаяся наконец открыто, требовала бы оправданий – и получила бы отпор, но это была не враждебность. По виду – всего лишь любопытство, но почему же оно настолько задело меня? Я свернул тот разговор, не выходя за границы вежливости, удалился в наши покои и повел с Келегормом беседу о близком отъезде.
Но он не спас меня, брат.
Здесь, на Аглоне, в замке, отстроенном и защищаемом нами, здесь, где мне при желании подвластно все и всякий и вовсе не всегда тоскливо без подходящего собеседника по грамматике и фонетике Кхуздула, я по-прежнему не могу отделаться от ощущения уязвленности. Ты задел меня слишком глубоко, брат. Я не могу до конца понять, чем именно, но и не это важно. Ведь след твоих слов поселился в моей душе, и я вглядываюсь именно в нее. И то, что я вижу, удивляет меня безмерно.
Я чувствую, как отзывается глухой болью то, от чего я отрекся уж давно – в те самые времена, когда отец открыл мне, что, следуя за ним, надлежит многое в себе изменить. Я не пожалел этого «многого»: оно мельчало в сравнении с грядущей целью. Я отсек от себя все лишнее, давно и решительно. И с тех пор – ни разу не пытался, даже в мыслях, отступить от избранного пути. Так почему же?
…Ты правильно сказал – «совестно». Это была именно совесть. Я считал себя свободным от нее, и ни разу не заметил ее присутствия все эти годы.
И вот теперь – ощущаю эти слабые, но заметные всплески, отчетливо-болезненные.
Я прислушался к ним внимательно. Это - даже не то, что есть. Память о том, что было. Место того решительного удара, помнящее об ударе до сих пор.
И вот потому я хочу спросить именно тебя, братец – тебя, хоть и знаю, что вслух и в твоем присутствии задавать такой вопрос бесполезно: ты уже не разглядишь за ним что-то кроме издевки и желания причинить боль тебе. Пусть их и не будет на этот раз – слишком многое совершилось ранее.
Но я отчаянно, отчетливо, честно – не скрывая за вопросом ничего кроме содержащегося в нем, хотел бы спросить тебя: ну как может болеть то, чего уже нет и никогда не будет больше?!…
Я не уверен, знаешь ли ты ответ, но ведь ты не мог не задаваться этим вопросом…
24 - 28 июня 2002 г.