 |
Вторая лекция прочитанная в Деканате прочитанная в "Тол-Эрессейского Университета" |
  -на толкиновские и фэндомские темы -лекции, прочитанные в Деканате Тол-Эрессейского Университета ("декабристские мотивы") -из старой публицистики       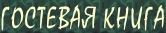    |
Поскольку народ (во всяком случае в лице Кариссимы) вроде бы был не против того, чтобы я рассказала еще что-нибудь на декабристские темы... ... И подумала я, что мне интересно рассказывать о судьбе неизвестных и малоизвестных декабристов, - есть в этих историях что-то такое, что греет мою душу, закосневшую в цинизме и пороках современной сивилизации... А посему, судари и сударыни, вот вам еще одна повесть, столь же печальная, сколь и поучительная... ПЕРЕИМЕНОВАННЫЙ ОСТРОВ Печальная документальная повесть Вероятно, рассказ этот следует начать с того момента, когда некая благодетельная девица Шарлотта-Христина Тиман, дочка средней руки голландского заводчика-пивовара Карла Тимана, решилась оставить свою родину и попытать счастья на российской земле. Было это около 1790 года. Она остановила свой выбор на России вероятно еще и потому, что в то время в Голландском посольстве в Петербурге служил ее двоюродный брат, тоже Тиман - между прочим, дальний предок ныне известного шахматиста Яна Тиммана (разница в правописании может объясняться тем, что в те времена вообще достаточно вольно обращались с транскрипцией и орфографическим написанием имен собственных) По понятиям того времени, девица Тиман была уже почти старой девой - ей было около 26-27 лет, однако ей повезло. Работящую, добропорядочную, набожную девушку с хорошим характером отметили, и в устройстве ее судьбы приняла участие Лютеранская иностранная община в С-Петербурге - около 1792 года фройляйн Шарлотта вышла замуж за шведа-офицера на русской службе, Петера Дэвида Торсона (в России обычно именуемого Петром Давидовичем). От этого брака родилось двое детей - в 1793 году сын Константин (названный в честь будущего наследника российского престола), - и около 1800 года дочь Екатерина. Возможно, были и еще дети, умершие в детстве, но об их судьбе нам ничего не известно. |
Поначалу служба папаши Торсона была успешной - он дослужился до квартирмейстерского подполковника в свите Императора Павла I. Однако после убийства Павла в 1801 году Торсон впал в опалу и был вынужден выйти в отставку (Александр Первый не жаловал фаворитов своего покойного отца), что и послужило, по-видимому, причиной печальных перемен в его характере. И раньше попивавший, почтенный скандинав стал прикладываться к графинчику чаще, чем следовало, за какой-то год допился до белой горячки, в безумии бил жену и детей, тосковал по прежним временам, - и наконец-то его хватил удар. Еще несколько месяцев он пролежал в параличе… и, наконец, умер, - оставив после себя вдову с сыном и дочкой, кучу долгов и доброе имя.
На родину в Голландию Шарлотта-Христина не вернулась - возможно, ее папа-пивовар к этому времени также уже благополучно отбыл на Небеса. Через некоторое время фрау Шарлотта-Христина подала прошение на имя Императора Александра Первого о зачислении ее в российские подданные - это практиковалось в то время для иностранцев на русской службе, - и назначении ей пенсиона за покойного супруга. Просьба была удовлетворена, - с этого времени (примерно с 1802 года) Шарлотта-Христина стала именоваться на русский манер - Шарлоттой Карловной, а дети ее - "дворянами российской нации и закона".
Между тем сын подрастал и нужно было решать вопрос с его обучением. Семейство, несмотря на назначенный пенсион, жило в крайней бедности, - и даже продажа дома за долги и переезд в съемную квартиру не решили всех материальных проблем.
Однако мир не без добрых людей - нашлись те, кто подсказали Шарлотте Карловне достойный путь: детей-мальчиков из незнатных и/или обедневших дворянских семей принимал в те времена Морской кадетский корпус, - к тому же (это был дополнительный плюс) в Морском корпусе в те времена было много лютеран.
В июле 1803 года сирота подал прошение на имя Императора о зачислении в Морской корпус:
"Мне же ныне от роду 9 лет, грамоте читать и писать обучен. Поместий и вотчин за отцом моим не состоит, и в службу я никуда еще не определен, а желание имею вступить в Морской кадетский корпус в кадеты…" Просьбу удовлетворили - 23 августа 1803 года мальчик был представлен Александру Первому и в сентябре зачислен в корпус "сверх комплекта на казенное содержание".
Современники отмечали "дикий произвол воспитателей и еще бОльшую одичалость воспитанников… что-то вроде самоуправления в широких размерах, с аристократиею - представителями физической силы, и плебсом, состоящим из новичков и мальчиков с более деликатным воспитанием. Гардемарины издевались над кадетами и заставляли их прислуживать себе: застилась постели, чистить сапоги и одежду и др.". Не правда ли, как знакомо?
Жизнь казенного воспитанника в корпусе складывалась не так легко. Мальчик был тихий и домашний, но характер его уже прошел нелегкое испытание, когда ему приходилось защищать от озверелого отца мать и грудную сестренку. Соученики издевались над ним, старшие кадеты били, а начальство драло нещадно за малейший проступок - ибо кто же заступится за казенного? Мальчик неплохо учился, но вскоре принял правила игры, - душа его очерствела, и поведением своим вскоре заслужил звание "отпетого", "чугуна", как тогда говорили, и за свои многочисленные выходки «противу дисциплины» не раз и не два ложился под розги, перенося наказание со стоическим спокойствием, мог даже взять на себя чужую вину - просто ради принципа. Однажды уже подростком на спор с самыми старшими, 18-летними, залез на клотик - самую верхнюю мачту. Было принято так демонстрировать свою удаль - в норме на этот клотик лазить вовсе не нужно, это всего лишь хвастовство, пустая бравада. Обычно один воспитанник лез, - а остальные стоят внизу и придерживают мачту, чтобы она не раскачивалась, - но подростки вздумали поиздеваться и раскачали специально. Константин не удержался, упал вниз, едва не разбившись насмерть. Старшим поставили на вид "неуместные развлечения", Константин же опять пошел под розги.
Вероятно, корпусное начальство и само было радо избавиться от способного, но дерзкого казенного воспитанника, - потому что, когда в 1808 году приехали в Корпус набирать добровольцев в действующий флот, то одним из первых отобрали Торсона - хотя ему оставалось учиться еще два, если не все три года. Так юный гардемарин оказался на войне - в возрасте неполных 15 лет.
Ему повезло - лейтенант Сущев, под началом которого оказался Константин, был добрым человеком и под свою личную ответственность разрешил необстрелянному подростку встать под открытый огонь. Вероятно, он рассуждал так, - что героизм в сражении поможет казенному воспитаннику, буде он останется жив, отличиться и сделать карьеру.
После очередного сражения Сущев подал рапорт директору Морского корпуса: "поведения благородного, должность исправлял с рачением… Находясь в сражении, заслужил особенное внимание начальства своею расторопностию и храбростию, за что и рекомендуется в мичмана".
Расчет Сущева оказался верен - Император Александр, когда ему подали рапорт об отличившихся, так растрогался, что распорядился лично произвести в мичманы (сдать экзамены на офицерское звание), хотя по закону Торсону не хватало для первого офицерского звания двух лет. Однако Императору в России, как известно, закон не писан…
В феврале 1809 года, пятнадцати лет от роду, Торсон сдал экзамены в Морском корпусе на звание мичмана - оказавшись 12-м по оценкам среди примерно семидесяти человек семнадцати-восемнадцатилетних оболтусов.
Императорский Указ: "Гардемарин Торсон за отличие в сражении противу шведов при острове Пальво 6 сентября прошлого 1808 года производится в мичманы".
Потом было еще страшное сражение на фрегате "Богоявление Господне" - когда удалось поджечь шведский корабль, и на глазах подростка люди горели живыми факелами прежде, чем корабль противника окончательно пошел ко дну… И опять в рапорте среди отличившихся - мичман Торсон…
В войне 1812 года российский флот не принимал активного участия - но все же пришлось оборонять прибалтийские порты от высадившихся прусских войск.
9 июля 1812 года Торсон был назначен командиром 10-весельного катера, спущенного в районе Либавы с фрегата "Амфитрида" - "для доставления на почту бумаг и за пресной водой". Не подозревая о том, что наполеоновские войска уже заняли Либаву, катер был послан практически невооруженным и обестрелян с близкого расстояния. Первым же выстрелом Торсон был ранен в ногу, а два матроса убиты.
Из донесения: "Несмотря на тяжелое ранение, дал команду поднять парус, сам сел за руль, а матросам велел лечь на дно катера, и провожаемый выстрелами неприятельских солдат, под парусом вышел в море; при том еще пять матросов получили ранения". Лишь после того, как катер возвратился к фрегату и начальство было оповещено о неприятеле в городе, герой потерял сознание…
Высочайший указ 31 июля 1812 года: "Господину флота мичману Торсону. Во изъявление внимания моего к неустрашимости, оказанной Вами 9-го сего июля, когда, будучи посланы на катере в Либаву, нашли там неприятеля и, несмотря на полученную от него тяжелую рану, употребили все меры к спасению команды Вашей, Всемилостивейше жалую Вас кавалером Ордера Св.Анны 3-го класса, коею знак при сем препровождается. Александр".
Награжденный же герой после этого случая год провалялся в прибалтийских госпиталях, перенеся четыре тяжелейших операции…
Дальше карьера его покатилась в том же странном направлении. Сироте нужно было выслужиться. Сироте нужно было на свое жалованье прокормить свою семью - к этому времени сестра Катенька была отдана учиться в Екатерининский институт благородных девиц (женское учебное заведение классом чуть пониже известного Смольного ин-та - в Екатерининский ин-т принимали дочерей обедневших дворян, разбогатевших купцов и мещан, выслужившихся чиновников) и деньги были нужны.
В 1813 году, все еще на костылях и с открытым гнойным свищом, 18-летний мичман был назначен командиром военного транспорта "Святая Анна", перевозившего порох и вооружение для союзных войск. Задание считалось крайне опасным, опытные офицеры отказывались от него: полный трюм пороха означал прекраснейшую возможность для всей команды взлететь на воздух при малейшей возможности, например, при первом же неприятельском обстреле."Святая Анна" сделала три рейса, за что Торсон по рекомендации руководившего операцией Артиллерийского департамента получил благодарность от Морского министра и 26 июля 1814 года был произведен в лейтенанты, а вскоре ему была пожалована также медаль на голубой ленте - в память об участии в войне 1812 года (кстати, первый морской офицер, награжденный за участие в Отечественной войне).
А затем потянулись серые будни… Еще один раз он примет участие в плавании вокруг Европы - лейтенантом корабля "Орел", - затем несколько лет рядовой, скучной, пустой береговой службы на Балтийском флоте в Кронштадте. Старая рана болела и до конца так никогда и не затягивалась, - уже после окончания войны ему сделали пятую операцию. Сестра, окончившая Институт, выросла и превратилась в редкую красавицу (ее звали - "Катерина Петровна - Хрустальная Льдинка"), на которую оглядывались все кронштадские офицеры… Вот только была эта красавица - бесприданницей…
Неизвестно, как бы сложилась дальнейшая жизнь молодого моряка… Неизвестно, если бы не снаряженная к 1819 году казенная кругосветная экспедиция к Южному полюсу - на шлюпах "Восток" и "Мирный".
В конце 1818 года русским правительством было принято решение об отправке экспедиций - к Южному полюсу и в Берингов пролив. При этом инициатива исходила не из морского ведомства, а из более высоких правительственных сфер. В Архиве Военно-Морского флота сохранилось письмо Беллинсгаузена к Николаю I, где он писал о том, что "Александр благословенный поручил мне исполнить собственную мысль и волю в южном полушарии".
Случилось так, что начальником этой экспедиции поначалу предполагался капитан I ранга Ратманов, - но отказался по возрасту и состоянию здоровья. Начальство над экспедицией принял тогда еще мало кому известный Фаддей Беллинсгаузен, получив право сам набрать офицерский состав. Беллинсгаузен был человеком жестким - немало блестящих офицеров, маменькиных сынков хотело бы принять участие в столь экзотическом кругосветном плавании, и немало вышестоящего начальства и просто "влиятельных людей" предлагало своих кандидатов. Однако Беллинсгаузен, по-видимому, понимал, что речь идет не об игрушках для удовлетворения самолюбия юных франтов, - экспедиция по тем временам была крайне опасной. В офицерский состав набирали только тех, кто имел опыт участия в дальних плаваниях и/или военных действиях, и прислушивались исключительно к рекомендациям боевых офицеров. Ратманов же и дал рекомендацию Торсону, и вскоре Беллинсгаузен уже писал: "По хорошему отзыву о вас известных морских капитанов… имею честь пригласить принять участие…"
Его взяли на шлюп "Восток", под начало самого Беллинсгаузена (вторым шлюпом, "Мирный", командовал лейтенант Михаил Лазарев) - 3-м вахтенным лейтенантом, геодезистом и метеорологом, а также "для ведения дневника экспедиции и наблюдения за нравами вновь открытых народов…" Уже в ходе плавания обязанности его расширились - из 3-х вахтенных он переместился в первые, был назначен 2-м помощником капитана, вел коммерческие и дипломатические переговоры в тех цивилизованных, полуцивилизованных и диких странах, где останавливались путешественники…
2 ноября 1819 года Южная экспедиция прибыла в Рио-де-Жанейро, и через три недели двинулись в Южный Ледовитый океан. Земли были неисследованные - тогда экспедиция впервые открыла группу островков в районе Сандвичевой Земли, названных Островами Траверсе (это имя тогдашнего морского министра в России). Но и каждый из островков получил свое собственное название по имени их первооткрывателей, офицеров Южной экспедиции - Беллинсгаузен дал островам имена своих спутников: Завадовского (первого помощника капитана), Лескова (2-го лейтенанта) и… Торсона.
Вот так было описано в дневниках экспедиции открытие этого острова:
"Когда пасмурность и снег прекратились, мы увидели на северо-востоке высокий берег, коего вершина скрылась в облаках; поутру на рассвете открылся остров, совершенно очистившийся от тумана, а на середине острова высокая гора; вершина ее и скаты покрыты снегом; крутизны, на которых снег и лед держаться не могут, имеют цвет темный. Остров круглый, в окружности двенадцать миль, по крутому каменному берегу неприступен, прекрасная погода позволила нам сделать полуденное наблюдение, и широта места нашего оказалась 56'44'18'' южная, долгота 27'41'51'' западная." В этих скупых строках - истинная музыка свершившегося ЧУДА, открытия: и гордость, и радость обретения.
А еще чуть позже (5 февраля 1820 года) экипаж "Востока" впервые увидел то, что прославит экспедицию в веках: "За льдяными полями мелкого льда и островами, виден материк льда, коего края отломаны перпендикулярно и который продолжается по мере нашего зрения, возвышаясь к югу подобно берегу".
br>"Я, - писал Беллинсгаузен, - с первого взгляда узнал, что вижу берег, но офицеры, смотря также в трубы, были разных мнений… Дали знать на шлюп "мирный", что видят берег. Вскоре сквозь тучи пробился пасмурный луч. Он прорезал пасмурность и осветил крутые черные скалы, на которых не было снега. Невозможно выразить словами радость, которая явилась на лицах всех при восклицании: "Берег, берег!". Восторг сей был неудивителен после долговременного единообразного плавания в беспрерывных гибельных опасностях, между льдами, при снеге, дожде, слякоти и туманах… Ныне обретенный нами берег подавал надежду, что непременно должны быть еще другие берега…" Каюсь, - когда я впервые читала эти строки в читальном зале Исторической библиотеки в Москве, - слезы текли у меня по лицу…
Но техническое снаряжение экспедиции тогда не позволило ей подойти ближе к таинственному берегу и убедиться в свершенном открытии - и 29 марта 1820 года экспедиция вернулась в Сидней. Они еще обследовали архипелаги Океании (всего экспедиция открыла 26 обитаемых и необитаемых островов), затем прибыли на Таити (который тогда назывался Отаити), - здесь Торсон руководил всеми экономическими сношениями с местным населением.
Экспедицию почтил своим вниманием сам король острова Помари - недавно воцарившийся в стране после десятилетий кровавых раздоров и усобиц.
Не удержусь, чтобы не привести длинную цитату, она очень колоритна:
"На помосте сидел король, одетый в белые ткани. Его черные густые волосы, коротко остриженные спереди, сзади свисали длинным локоном. Лицо смуглое, впалые черные глаза с нахмуренными густыми черными бровями, толстые губы с черными усами и колоссальный рост придавали ему вид истинно королевский. Король произнес имена Александра I и Наполеона, желая показать свое знакомство с европейской политикой. Королевская семья обедала в кают-компании, при этом моряки заметили, что король и королева всем яствам предпочитают вино… После обеда Беллинсгаузен показывал королю пушки и велел салютовать ему пятнадцатью выстрелами. Помари был доволен такими почестями, но при каждом выстреле, держа Беллинсгаузена за руку, прятался за него… Королю вручили медаль с изображением Александра I. Потом Помари одарил всех офицеров: г-ну Заводовскому положил в карман две жемчужины и сверх того подарил ему большую белую ткань; господам Торсону, Лескову и другим дарил также ткани. Каждый из них со своей стороны старался отблагодарить короля разными подарками".
Выполняя свои обязанности этнографа экспедиции, Константин Петрович старательно изучал нравы и быт диких народов - сохранилась запись о том, как однажды он полдня гонялся на ялике за лодкой каких-то таинственных дикарей, пытаясь приманить их подарками, а островитяне в обмен кидались кусками кораллов и гнилыми кокосовыми орехами. Зато открытый благодаря этому населенный остров был назван именем Великого князя Александра Николаевича (т.е. будущего императора-реформатора Александра Второго).
А затем - снова льды, месяцы одних только льдов, вечное ледяное безмолвие… В октябре 1820 года снова двинулись к берегам Антарктиды и 17 января 1821 года в 11 часов утра вновь увидели вдали ледяной берег… Однако, поскольку в них ударил айсберг и открылась течь, то исследования пришлось прервать и спешно повернуть обратно.
24 июля 1821 года Южная экспедиция с триумфом вернулась в Кронштадт, и Торсон пал в объятия дожидавшихся его на берегу матери и сестрицы.
Экспедиция продолжалась 808 дней; за участие в ней все офицеры (наш герой в том числе) были награждены орденами Владимира IV степени, удостоены личной аудиенции у Александра I, который "за уважением отличного усердия к службе и трудов, понесенных во время вояжа вокруг света и особливо к Южному полюсу" повелел выплачивать участникам экспедиции двойное жалование до тех пор, пока они будут оставаться в морской службе.
Блестящая карьера открывалась перед молодым исследователем - вскоре он переводится из Кронштадта в Петербург "для окончания дел по вояжу к Южному полюсу, обработке материалов экспедиции и составлению записок Южной экспедиции". Тогда же Торсон был для лучшего выполнения своих новых обязанностей назначен старшим адъютантом Адмиралтейства (Морского министерства).
А дальше… О, дальше была совсем другая история. Пока скажу лишь следующее:
Когда несколько лет спустя, уже после происшедшего восстания декабристов и отправки Торсона в Сибирь, Беллинсгаузен взялся издавать описание экспедиции ("Двукратные изыскания в Южном ледовитом океане…"), - то безжалостные цензоры постарались вымарать оттуда неугодное имя государственного преступника. К редактуре книги приложил особенные усилия тогдашний председатель ученого комитета Морского штаба - Л.И.Голенищев-Кутузов. "Всему виноват Логин Иванович Кутузов, взявшийся за издание… - писал в 1834 году Михаил Лазарев своему другу Шестакову. - Отдал в разные руки и, наконец, вышло самое дурное повествование весьма любопытного и со многими опасностями сопряженного путешествия. Я не знаю, в каком виде представил оное Беллинсгаузен, но ясно вижу, что слог в донесении моем к Беллинсгаузену после разлучения нашего и по прибытии в Порт-Жаксон изменен совершенно, а кто взял на себя это право, не знаю".
Вахтенный же журнал "Востока", как и вахтенный журнал "Мирного", впоследствии исчезли, - вероятно, погибнув вместе с основным архивом Беллинсгаузена.
Вероятно, Голенищев-Кутузов или кто-то по его указке совершил впервые эту подмену - открытый островок в Тихом океане, названный именем Торсона, был переименован. Теперь он назывался остров Высокий, "потому что он отличается от прочих своей высотою".
Именно под этим названием остров фигурирует до сих пор на географических картах мира.
… И лишь на сохранившемся в историческом музее в Москве рисунке художника П.Н.Михайлова, - также участнике Южной экспедиции, - под изображением крошечного, окутанного облаками островка сохранилась собственноручная подпись художника: "Остров Торсона"…
... В Морском министерстве Торсон, однако, оказался не к месту. Нельзя сказать, чтобы его службой были недовольны, - но, как и когда-то в Морском корпусе, он был неудобен. Привыкший к жизни моряка дальнего плавания, где ценились не светские условности, а крепкие руки, крепкая голова, крепкая дружба, искренность и ответственность, - не смог вписаться в структуру, где нужно было кривить душой и кланяться вышестоящему начальству. Познавший во время плавания устройство флота западных стран, - не желал смириться с убожеством российской действительности, умело прикрываемой внешней лакировкой.
В начале 1823 года он подает свои первые проекты по реформам в российском флоте.
Проекты начальству не были нужны, - но от упрямого адъютанта желали отвязаться, кинув ему приманку, точно кость. Его назначили начальником специально созданной комиссии «для составления сметных исчислений на построение кораблей, фрегатов и других судов» (комиссия эта просуществовала до 1827 года) и предложили ему выбрать себе линейный корабль в Балтийском флоте и подготовить его по своему вкусу, - для доказательства жизнеспособности и преимуществ его проектов. Осенью 1823 года ему был предоставлен в распоряжение «для проведения опыта» только что построенный 84-пушечный линейный корабль «Эмгейтен». Торсон носился с кораблем, как с писаной торбой, - невероятными усилиями сражался за каждый гвоздь и каждую доску для обшивки, самолично лазил во все дырки и щели, совал свой нос куда надо и куда не надо, нажил, соответственно, себе кучу врагов среди адмиралтейских чиновников, крайне недовольных вмешательством дотошного и слишком «правильного» адъютанта (о том, что чиновникам надо элементарно давать взятки, - ему видимо просто в голову не пришло, или пришло, но он с негодованием отверг эту мысль), - но корабль наконец был отделан так, как нужно. Дальнейшую печальную историю рассказывает в своих мемуарах Михаил Бестужев:
«Корабль «Эмгейтен» был подготовлен как жених на бракосочетание. Любо было смотреть на этого красавца русского флота, принаряженного без казенного классицизма, просто, чисто и вполне отвечающего боевому его назначению. Капитан 2-го ранга П.Ф.Качалов, появившийся на корабле за неделю до его плавания, сменил Торсона. Александр I осматривал корабль с адмиралом Карцовым, а 24 июля прибыл на «Эмгейтен» с великими князьями, великой княгиней Александрой Федоровной и придворными. Торсона удалили. Все были поражены небывалым устройством, изящною отделкою и видом корабля, не похожего на то, что прежде видано. Государь, вполне довольный, благодарил Качалова, несколько раз спрашивал, отчего он тут видит то, чего прежде нигде не видел - и все кланялись и молчали, потому что истины сказать не смели… Узнав, какую жалкую роль он играл в этой комедии, всегда осторожный Торсон разразился всем пылом своего благородного негодования и объявил…, что он пойдет к Государю и сообщит ему, как играют его измененными указами даже в то время, когда страждут интересы казны. Моллер (тогдашний начальник Морского штаба - Р.Д.) поспешил употребить все средства для его успокоения».
Через неделю «Эмгейтен», призванный стать украшением боевого российского флота, был отдан под нужды великого князя Николая Павловича (будущего императора Николая I) - для прогулок его вместе с семьей по Финскому заливу; командиром корабля стал Качалов.
Однако Торсон был опасен, ему нужно было заткнуть рот, - и заткнули. 30 августа 1824 года «за отличие по службе» он был произведен в капитан-лейтенанты, и тогда же его назначили начальником морской кругосветной научной экспедиции «для исследования северо-западных берегов Америки и отыскания Северо-Западного морского прохода». Несомненно, Моллер просто желал удалить неугодного адъютанта из Петербурга на несколько лет под благовидным предлогом, а если экспедиция разобьется в северных льдах - жаль, конечно, казенных средств, то тоже невелика потеря ("Моллер уже начинал тяготиться присутствием этого неподкупного Катона" - это М.Бестужев), - но Торсон был снова счастлив; на него повеяло столь желанным ему вольным ветром океана, он мечтал вырваться из душной атмосферы светского и чиновного Петербурга, он гнался не за чинами, нет, - но карьера исследователя, но жажда неизведанного, но слава первооткрывателя!
Ему было предложено «самому составить инструкцию, которая определила бы цель, продолжительность и место действия нового кругосветного плавания». Такая инструкция была составлена и утверждена, корабли (2 шлюпа) строились, экипаж был набран (в состав экипажа должен был войти и Михаил Бестужев). Экспедиция планировалась на три года, с двумя зимовками в северных льдах - вещь, по тем временам еще неслыханная. Отплытие из Кронштадта должно было состояться в марте 1826 года.
М.А.Бестужев: «Помню я эти блаженные минуты, когда в осенние ночи при тусклом свете сальной свечи мы проводили с Торсоном пути по земному шару и открывали с ним неведомые страны и острова и крестили их русскими именами. Как затруднялись, чтобы найти предлог посетить Средиземное море, куда меня влекло мое пламенное воображение: посетить места, столь славные историческими воспоминаниями. И, наконец, и эти места были включены в инструкцию и эта инструкция утверждена была высочайшею волею».
Жизнь между тем продолжалась своим чередом. Семейство Торсонов (сам Константин, мать и сестра) поселилось в казенной квартире Гвардейского Экипажа, и, однако же, несмотря на двойное жалование участника Южной экспедиции, денег все равно катастрофически не хватало. Прекрасная Катерина Петровна, увы, все приближалась к рубежу, за которым девушка в те времена становилась старой девой: не то, чтобы к ней совсем не сватались, но она была горда и не соглашалась на неравный брак… Говорят еще, что любила она все эти годы Николая Бестужева, близкого друга и сослуживца своего брата, - ну а Бестужев любил жену Степового… - и вот так у них жизнь и не сложилась. Шарлотта Карловна ни за что не хотела второй раз отпускать своего единственного ненаглядного сына в кругосветное плавание, - натерпевшись в первый раз страха неизвестности, когда письма не приходили по полгода, - но решала не она, а Константин любил свою матушку, но не собирался потакать ее суевериям.
В 1824 году он еще отличился во время известного Петербургского наводнения - руководил организацией спасения потерпевших и лично спас около 700 человек, за что был вновь удостоен царской аудиенции.
Но семя уже было посеяно, и даже интенсивная подготовка к экспедиции не уняла мятущейся души. Он искал не карьеры, а ПОЛЬЗЫ (это слово он повторил потом несколько раз во время следствия над декабристами), деятельный - искал дела, кристально честный - искал чести, - и не мог найти в той обстановке. В 1821 году в Бразилии он был свидетелем народного восстания и его кровавого расстрела императорскими войсками, - и бунт, кровь напугали его, - но он по наивности своей видно, еще надеялся, что можно пойти по какому-то иному пути…
Снова дадим слову Михаилу Бестужеву: «Однако накипевшее негодование не могло скоро уходиться. В частых беседах со мною Торсон раскрывал душевные раны, и жалобы с горечью изливались на существующие злоупотребления, на гнетущий произвол, на тлетворное растление всего административного организма. «Надо положить этому конец», - произносил он часто, останавливался, задумывался и переменял разговор. В конце 1824 года он неожиданно признался, что вступил в тайное политическое общество».
В общество Торсона принял его лучший друг - Николай Бестужев.
На следствии Константин покажет: «Видя различные злоупотребления и недоступность правительства к исправлению оных законным порядком, действуя частно лицом, я убедился в необходимости действовать обществом для достижения сей цели; тогда Бестужев представил мне, что существует тайное общество, которого цель есть, собирая подробности злоупотреблений и основываясь на ограждении права собственности… каждого… составить план исправления оных и ожидать естественной кончины покойного императора, тогда при вступлении на престол наследника его представить обо всем и убедить принять предлагаемые меры… Я убедился, что такое общество должно до времени существовать в тайне, и полагаясь на благоразумие человека, бывшего мне другом, и я вступил в общество». В последних словах звучит не то, чтобы упрек, но какая-то скрытая горечь - «полагаясь на благоразумие…» - и кто знает, кто скажет, не пожалел ли потом сотню раз Николай Бестужев о том, что благодаря ему российская географическая наука лишилась несостоявшегося исследователя, а российская политическая каторга приобрела нового жильца.
А вот так это событие впоследствии в своих «Записках…» прокомментировал желчный Н.И.Греч, - монархист, литератор и провокатор: «Впрочем, эти несчастные слепцы считали свое дело справедливым и святым и, заманивая легкомысленного добряка в свои губительные тенета, думали и говорили, что посвящением в святые тайны делают ему честь».
Вероятно, в скором времени, - около начала 1825 года, - через Бестужева Торсон стал вхож в кружок Рылеева, и когда настало время междуцарствия и начались конкретные разговоры о восстании, принимал участие в совещаниях.
Как сказали бы теперь, он принадлежал к умеренному крылу в Северном обществе - оставаясь до самого конца конституционным монархистом и не одобряя крайних мер, - ни таких как цареубийство, ни даже, по-видимому, таких как открытое вооруженное сопротивление. Интересно, что группировка эта в Северном обществе, даже несмотря на активность более «агрессивно» настроенной группы Рылеева-Оболенского и примыкавшей к ним гвардейской молодежи, - была влиятельна. Николай Бестужев, Торсон, Батеньков, Штейнгель, - сами по себе не были знатны или богаты, и, не будучи строевыми офицерами, не могли повести за собой войско, - зато, занимая определенные посты, имели влияние и были вхожи в определенные круги высшего чиновничества, в том числе считавшегося либерально настроенным и готовым к определенным переменам (так, Батеньков был начальником канцелярии Сперанского, Штейнгель служил в канцелярии московского генерал-губернатора). Именно через эту группировку Северное общество предполагало воздействовать на тех, кого прочили после переворота в члены Временного Правления: Сперанского, Мордвинова, Сенявина и др.
Близкие и по возрасту (это как бы «старшее» поколение среди декабристов - им всем уже больше тридцати лет, а Владимиру Ивановичу Штейнгелю - больше сорока и, однако, он переживет почти всех), и по социальному положению, и по политическим взглядам, - даже их следственные дела на общем фоне выделяются словно бы некоторым особняком. «Господа либералы», - вот так их можно было бы назвать: им видятся другие цели, другие мотивировки. Большинство прочих декабристов (крупных, средних или мелких помещиков; строевых военных - командиров военных частей), описывая на следствии причины действий общества, указывали в первую очередь на пагубность крепостного права, бесправие и унижение крепостного крестьянина в деревне и тягостное положение русского солдата, тянущего 25-летнюю армейскую лямку, - но здесь на первый план выходят несколько иные мотивы. «Господа либералы» деревни и ужасов крепостничества не знают, собственных крепостных не имеют, войсками не командуют. Борьба с чиновничьим произволом, реформы судопроизводства, развитие науки и коммерции, освоение дальних географических регионов, развитие путей сообщения, процветание российского флота, причем не только и не столько военного, сколько научного и торгового (здесь из четверых двое: Торсон и Бестужев - морские офицеры и один - Штейнгель - бывший морской офицер), возможность честной карьеры для человека, имеющего знания и готовность принести пользу, - независимо от знатности и богатства: вот что занимает в первую очередь воображение новоявленных либералов. Собственно, перед нами пока еще редкие прообразы нового зарождающегося класса в России - либеральной разночинной интеллигенции, добившейся своего положения ТОЛЬКО собственными знаниями, трудом и упорством, - однако где-то в 60-е годы, во времена расцвета Александровских реформ, этот слой станет уже достаточно массовым, и, постепенно преобразуясь, обретет к 1905 году свою представительную партию, известную в истории как Партия кадетов.
Здесь интересно еще то, что по результатам следствия секретарем Следственного комитета Боровковым был составлен «Свод показаний злоумышленников на внутреннее состояние России…» - куда вошли наиболее четко выраженные и проработанные мнения о государственном устройстве России и возможных путях дальнейшего развития. Значительную часть в этом своде составили показания именно «либеральной четверки». Данные эти потом потихоньку использовались во время тайной подготовки реформ в недрах кабинета Николая I, - и затем, не устарев, уже открыто при подготовке либеральных реформ Александра II.
В начале декабря 1825 года Торсон «согласился подготовить фрегат для вывоза императорской фамилии за границу и командовать им», - однако это осталось в проекте. Идея самого восстания - неподготовленного и с малыми средствами, - его, по-видимому, ужаснула, - он боялся крови, неизменно могущей последовать из предполагаемого образа действий, и предсказывал заговорщикам либо ужасное поражение, либо кровавую смуту в случае случайного успеха. 12 декабря он фактически хлопнул дверью квартиры Рылеева, отказавшись присоединиться к восставшим. «Все вообще шло иначе и стремилось к своему концу», - покажет он потом на следствии. И в решающем совещании вечером 13 декабря, на котором Каховскому был отдан кинжал и предложена роль цареубийцы, Торсон уже не участвовал.
А утром 14 декабря, как обычно, отправился на службу в Адмиралтейство, откуда из окна наблюдал расстрел восстания, - где на площади стояли его вчерашние соратники и друзья, в том числе Николай Бестужев, который лично вывел на площадь часть Гвардейского морского экипажа, и юный Михаил Бестужев, командовавший восставшим Московским полком, - Мишель Бестужев, которого сам Торсон полгода назад принял в тайное общество…
Торсон вернулся домой со службы поздно вечером. Мишель же после восстания отправился на квартиру к Торсонам и в позднейших воспоминаниях подробно описал этот вечер (снова не удержусь чтобы не привести длинную цитату):
"Почти бегом я достиг казарм 8 флотского экипажа, где жил Торсон, и, запыхавшись, вошел в комнаты без всякого доклада. В зале, сумрачно освещенной одною свечей, за круглым дубовым столом сидела почтенная старушка, мать его, в памятном мне белом чепце, с чулком в руках и с книгою, которую она читала, не обращая внимания на вязанье. Напротив нее, раскладывая гран-пасьянс, сидела умница, красавица, его сестра, и, подпершись локотком, так задумалась, что не слыхала даже довольно шумного моего появления. Громкий задушевный смех ее матери пробудил ее. Она ахнула, увидя меня в таком маскарадном костюме, вскочила со стула и, подбежав ко мне, спрашивала всхлипывая:
- Итак, все кончено, - где брат, где брат мой?
………
Если бы я владел пером Шиллера или Гете, или кистью Брюллова, какую высоко-драматическую сцену, какую поразительно-эффектную картину написал бы я, изображая нашу беседу при мерцающем свете нагоревшей свечи - беседу в группе трех лиц, случайно и так эффективно поставленных один против другого. Старушка, совершенно глухая, сосредоточила все свои чувства во взоре. Ощущение неведомой душевной тревоги тучками набегало на ее невозмутимо-ангельское чело, когда кроткий взор ее с видимым беспокойством переносился с моего лица на лицо своей дочери, глотавшей слезы и старающейся всхлипывания плача заглушить или прикрыть принужденным смехом. Мое положение было не лучше. Зная, что Константин Петрович был кумир, боготворимый ими; зная, что с его потерею они лишаются и блага душевного и материальных средств своего существования, я должен был сестру его успокаивать, когда погибель его была непреложна. Чтоб сколько-нибудь замаскировать, что происходило в душе моей, я взял перочинный ножичек, лежавший на столе, и стал чертить и вырезывать на дубовом столе. Не знаю как и почему - у меня вырезался якорь, веретено и шток, которого я превратил в крест, и явился символ христиан: надежда и вера.
- Вот что должно быть вашею путеводною звездою в вашей будущей жизни, - заключил я, заслышав шаги входящего Торсона. Впоследствии, когда и сестра и старушка мать приехали в Сибирь, чтобы усладить жизнь изгнанника, Катерина Петровна часто вспоминала этот роковой вечер и повторяла, что вырезанный мной символ веры и надежды сохранился в том же виде до последнего дня их пребывания в Петербурге, и что, часто упадая духом под гнетом страданий, достаточно было взглянуть на него, чтоб почувствовать новые силы для перенесения новых треволнений".
… Вечером 14 декабря у себя на квартире был арестован и доставлен в Зимний дворец Рылеев. На допросе, называя членов тайного общества, он одним из первых назвал Торсона, - и уже 15 декабря Константин Петрович был арестован на занимаемой им казенной квартире.
Рассказывают, что арест происходил на глазах у престарелой глухой матери и сестрицы, которая билась в истерике, цепляясь за брата, с арестом которого семья лишалась каких-либо средств к существованию. Рассказывают, что арестом руководил делающий быструю карьеру адъютант Алексей Лазарев - брат того самого мореплавателя Михаила Лазарева, и во время ареста Торсон, глядя в глаза, сказал: «Как же так… Мы с твоим братом два года делили и хлеб-соль, и труды, и опасность в тех местах, откуда не возвращаются…»
Мишель Бестужев, на тот момент еще не арестованный и как раз собиравшийся, переодетым, бежать из Петербурга, наблюдал эту сцену: "Спустившись с Адмиралтейского бульвара… я увидел толпу любопытных, сопровождавших какого-то флигель-адъютанта. Всмотревшись попристальнее, я узнал… боже мой! - я не верил глазам своим, - Торсона… "Какими путями и так скоро успели до тебя добраться?" подумал я. Они довольно близко проходили мимо меня, и я мог довольно хорошо рассмотреть всю группу. Впереди шел с самодовольным видом (как мне показалось) Алексей Лазарев, гордо подняв голову и не понимая унизительной роли сыщика. За ним шел Торсон, поступью твердою, с лицом спокойным и со связанными назад руками".
Увидев это, в тот же день Михаил Бестужев отказался от идеи бегства и добровольно явился во дворец под стражу.
Торсон же был доставлен во дворец и допрошен генералом Левашовым (личной императорской аудиенции на этот раз не удостоился), - и на следующий же день отправлен в крепость Свеаборг, где его надолго оставили в покое…
Следственное дело - ответы на вопросы Комитета то скупы, то вдруг взрываются запоздалой горечью эмоций; порой чрезмерная искренность, - и одновременно сдержанное достоинство; четкий почерк с характерным легким наклоном влево:
«Чувствую и слишком сильно, что я, имея намерения от доброго сердца видеть в отечестве моем пресечение злоупотреблений и силу законов, слишком доверчив был… желая пользы, я вступил в общество, которого тихое и кроткое направление было согласно с моими чувствованиями; увидев оное переменяющимся, я мечтал еще в удержании его на пути умеренности и терпения, но в пламенном моем усилии увидел поздно всю силу бури, которая увлекала меня и от которой я должен погибнуть. Любя всегда истину и желая, чтобы в моей стране законы были в силе, ясно вижу, что мне дОлжно быть первой жертвой такого исправления... Но если строгость законов должна исполниться надо мною за то, что я, желая пользы и не могши действовать лично, вступил в тайное общество, если я должен за оное страдать, то прошу у монарха одной милости: удостоить выслушать меня, выслушать подробности причин, ввергнувших меня в пропасть и позволить посвятить ему мои мысли, полезные для службы, в которой я образовал себя; любя отечество и пламенно желая ему всего хорошего, я терпеливо понесу мой жребий, не устрашусь самой смерти, справедливой и необходимой для счастья России, но мучительно для меня одно, если я с собою погребу все то, что в продолжение службы собрал полезного для флота; в надежде некогда оные представить правительству, я начал с проекта об оснащении, и если он не во всех своих частях будет принят, то и тогда уже принесет большую пользу. И потому осмеливаюсь повторить мою просьбу к монарху, одной милости справедливой прошу, если не угодно меня допустить к себе, дозволить здесь, в Свеаборге, изложить на бумаге только то, что касается службы и представить в его собственные руки».
Просьбу не отвергли: «По воле государя… объявить содержащемуся во вверенной вам крепости капитан-лейтенанту Торсону что ему высочайше позволяется написать Его Величеству о разных собранных им сведениях касательно флота…»
В июне 1826 года объемный труд был подан Николаю Павловичу на рассмотрение, передан в специальный Комитет и был отвергнут, - однако на деле в 1830-40-ее годы предложенные меры потихоньку, без имени автора, проводились в жизнь.
Торсон же был осужден Верховным Уголовным судом «по второму разряду» на двадцать лет каторжных работ, и с одной из первых партий (вместе с Анненковым, Никитой и Александром Муравьевым) отправлен в Сибирь. Они прибыли в Читу 28 января 1827 года.
Между тем еще в марте 1826 года подготовленные шлюпы «Моллер» и «Сенявин» отправились из Кронштадта в кругосветное плавание в район Северного полюса под командованием лейтенантов Литке и Станюковича…
Торсона отправили в Читинский острог. Через некоторое время туда же прибыли братья Бестужевы (Николай и Михаил). На каторге Торсон не то, чтобы не прижился… но повел себя по крайней мере странно, - разрыв с морем, флотом, путешествиями, - с тем, что составляло действительное его призвание, - он воспринял крайне болезненно, если не сказать - неадекватно.
Мишель вспоминал: «В Чите и Петровском каземате… он исписывал целые груды бумаги о преобразовании флота, даже о преобразовании самого правления - утопия, где он хотел соединить самодержавие с конституционными порядками… Мелочные предосторожности, чтоб скрыть от глаз тюремщиков свои записки и неумолкаемый шум в тесном нашем помещении держали его в постоянном раздражении и невольно принуждали его обдумывать свои планы в ночной тишине, что причиняло ему частные приливы крови к голове и наконец гибельно подействовало на его здоровье. За расстройством желудка появилась ипохондрия: он сделался подозрителен. Я был единственным человеком, кому он еще доверял и мы с ним проводили большую часть дня в летнее время, уединившись в беседку… рассуждая о его планах, выправляя и приводя в порядок его черновые отрывки… он заставлял меня их выслушивать по целым часам, таинственно сообщал мне свое намерение переслать все это Государю… Он не сомневался, что Николай Павлович примет его проект, как дар неба, простит его, приблизит к своей особе, … открывал мне свою душу и признавался, что это он делает для меня, и просил сказать откровенно: чего я хочу? О чем он должен ходатайствовать у государя?… В Петровском каземате болезнь еще более усилилась».
Однако, по мере того, как таяли его надежды на скорое возвращение во флот, им все более овладевало другое увлечение.
В октябре 1833 года комендант Лепарский переслал военному министру графу Чернышеву «чертеж шотландской молотильной машины, измененной и дополненной в ее устройстве государственным преступником Торсоном, который просил прислать оный к живущей в С-Петербурге матери его… дабы она по крайне бедному состоянию могла продажею сего изобретения приобресть некоторое пособие к содержанию себя и своей дочери». Чертеж по повелению Императора был препровожден в Императорское вольное экономическое общество, «которое нашло изменения, … в сей машине сделанные, по удобству своему заслуживающими полного одобрения. Заслуживает он внимания и поощрения, ибо чертеж, а в особенности описания, составленные им с особенным тщанием и ясностью, свидетельствуют, что он, Торсон, может с пользою употреблять труды свои для подобных же механических и сельскохозяйственных занятий». Николай Павлович соизволил пожаловать матери сего преступника 500 рублей ассигнациями из сумм Государственного казначейства.
Между тем семейство - мать и сестра - в Петербурге действительно бедствовали. В Петербурге у них не было ни родственников, ни близких друзей, - единственные же близкие друзья, мать и сестры Бестужевы, уехали в деревню. Почти сразу же после ареста Торсона Шарлотту Карловну и Катерину Петровну выгнали из казенной квартиры, - денег же на съемное жилье не было. Их приютили в доме, принадлежащем шведской лютеранской общине, - в благодарность за это Катерина Петровна выполняла разные работы для храма. Дошло до того, что Катерина Петровна продавала свои платья за бесценок, - но книги Константина Петровича и его коллекция редкостей оставались в неприкосновенности до поры до времени.
Нельзя сказать, чтобы семье совсем не помогали - бывшие участники Южной экспедиции, и прежде всего сам Беллинсгаузен, невзирая на императорское недовольство, собирали деньги для опальной семьи государственного преступника. Пыталась семье помочь и благодетельница ссыльных декабристов, - Екатерина Федоровна Муравьева, мать Никиты и Александра Муравьевых. «Тяжело и унизительно жить на подаяния чужих людей, - писала с оказией Катерина брату в Сибирь, - но приходится брать эти деньги, потому что мать болеет, а жить надо».
В 1826 году по распоряжению Николая Павловича III-м отделением была составлена записка о семье Торсонов: «В числе государственных преступников… находится бывший флота капитан-лейтенант Торсон. Он был единственною подпорою престарелой, глухой и больной матери и сестры своей, девицы благородной и добродетельной. Потеряв его, они лишились счастия в мире и дневного пропитания. Сестра в исступлении горести намерена последовать за несчастным и облегчить его участь, но для сего должна оставить мать, которую она должна кормить работою рук своих».
По тем временам, дворянская девушка, зарабатывающая сама, - вещь практически неслыханная, - однако у Катерины Петровны не было другого выхода. Ее пыталась устроить гувернанткой в богатую семью, - но никто не хотел брать девушку, запятнанную родством с государственным преступником. Катенька шила и вышивала, продавала свою работу, а около 1830 года пошла ухаживать за больными в Анненский лютеранский госпиталь.
А тем временем она ежегодно подавала слезные прошения на имя Императора и Бенкендорфа:
(в 1828 году от имени матери): «Решаюсь обратиться… со всепокорнейшею моею просьбою оказать величайшее благодеяние и исходатайствовать мне с дочерью… позволения окончить грустные наши дни вместе с несчастным моим сыном, в коем заключалось единственное наше родство, отрада и подпора беззащитному нашему семейству. В сем бедственном положении милостивым вниманием и неизреченным милосердием Монарха хотя облегчены наши нужды, - но осиротелое сердце матери жестоко страдает в горести, разлуке хотя по пагубному заблуждению виновному, но по внушению природы, и по всегдашней о нас заботливости и попечению милому и близкому по чувствам существу, с коим всякое горе и бедствие разделяемое вместе, было бы для нас не столь тягостно».
Ответ, данный матери и дочери, звучал категорично: «По существующим узаконениям, в которых не может быть сделано… никакое изъятие, предоставляется только женам право испрашивать дозволение на следование за ними…, родителям же и прочим их родственника сие вовсе возбраняется».
Настал момент, когда Торсон должен был выходить на поселение, - в 1836 году. Он очень переживал, что выходит раньше своих близких друзей - Бестужевых, и отправляется в глухое место, где у него не будет никакого подходящего общения. Денег у него не было: покидая Петровский завод, он имел при себе 25 рублей. Он, однако, не знал, что незадолго до его выхода сестра из последних средств собрала и передала для него 1000 рублей, которые были задержаны администрацией в Иркутске.
Он был отправлен в глухую крепость Акша и оказался там на поселении вместе с раньше вышедшим из острога декабристом Аврамовым, - но прожили они вместе недолго, буквально через несколько месяцев Аврамов на руках у Торсона умер от скоротечной чахотки. Смерть Аврамова потрясла одинокого изгнанника. Он участвовал в военных действиях и дальних экспедициях, он видел смерть и кровь, - но впервые в жизни человек, к которому он едва успел привязаться своей тонко чувствующей душой, умирал у него на руках…
К.Торсон - Н.Бестужеву, Акша, 1836 года:
«Первый раз в жизни моей человек умирал на моих руках, первый раз в жизни своими руками я чувствовал, как теплота исчезает постепенно, хрипение умолкает, дыхание, замирая, за собою вело мертвенность по лицу и на мои руки передавало холод, постепенно увеличившийся, - первый раз в жизни человек, с моих рук духом отойдя к престолу вечного, оставил моему освязанию холодный труп и оставил чувствования, которого я не умею выразить.
9-го ноября тело его предано земле - и все кончено. Мой друг, вас в Петровском еще много, еще довольно, чтобы в минуту страдания подать помощь друг другу, но я, брошенный в Акшу, чтобы тут увидеть чувствования людей, которым хотел сделать пользу, тут должен был закрыть глаза моего товарища, бросить первую горсть земли на его гроб, и, смотря на людей, стоявших вокруг могилы, с горестью спросить себя, кто из этих людей в минуту томительной, смертной жажды подаст мне напиться? Кто прикроет мои глаза? Кто проводит меня к подобному месту?
Я остался один, один в пустыне».
Глобальные проекты его по переустройству и механизации сельского хозяйства Сибири сталкивались с техническими проблемами и главным образом, непониманием местного населения, душевное и физическое здоровье все ухудшались, одиночество было мучительным, он тревожился за родных в Петербурге.
2 октября 1836 года из Акши он еще раз подает прошение Бенкендорфу:
«Имея престарелую мать и сестру в бедном состоянии, долженствующих переносить нужду, я изыскивал способы доставить им хотя какое-либо пособие, и для этого оставшееся свободное время употреблял на механические занятия.. Приготовя мысли мои к таким занятиям, я вышел на поселение с желанием начать скорее практическую жизнь трудов; к крайнему сожалению, на месте моего жительства встретил невозможность заниматься чем-либо подобным…» Он просит перевести его в Западную Сибирь, ближе к Уральским заводам, чтобы иметь возможность устроить небольшую мастерскую для изготовления сельскохозяйственных машин, - ему отказывают. Тогда он попросил перевести его «хотя бы в Селенгинск, которого климат позволяет устроить правильное земледелие»: «Мне кажется, что предполагаемые занятия сына для облегчения нужд престарелой и болезненной своей матери и сестры, и при этом доставлять по возможности пользу людям вообще, не составляют предмета, который подлежал бы преследованию законов. Если я решился просить о возможности занятия, то единственно по одному священному чувствованию успокоить своих родных и быть полезным человечеству», - пишет он все с той же свойственной ему сдержанной гордостью.
Наконец в январе 1837 года действительно последовал указ о переводе в Селенгинск. Переехавший Торсон на сэкономленные деньги кое-как обзавелся хозяйством: завел участок в 15 десятин в 15 верстах от города, лошадей, коров и овец, занимался хлебопашеством, - но и здесь ему не повезло: из-за наступившей резкой засухи он потерпел крупный убыток. После этого попытался возобновить свои механические занятия и начал организацию большой мастерской «для приготовления разных земледельческих машин и стараться ввести их в употребление в Сибири», - но счастье ему не благоприятствовало.
Николай Бестужев, к этому времени уже тоже вышедший на поселение и обосновавшийся рядом с Торсоном здесь же, в Селенгинске, писал своей сестре Елене в Петербург:
«Неудовольствия всегда будут с Константином Петровичем, который хочет всех переделать на свой пуританский манер и чья недоверчивость и подозрительность вооружают против него каждого.… Его деятельный ум не может оставаться в бездействии, но идея о машинах овладела им до такой степени, что он спит и видит о введении машин здесь, где по количеству рук долго не будут нуждаться в машинах, а скотоводство, составляющее главное произведение здешнего края, вовсе в них не нуждается».
Он пытался вновь передать свои чертежи в Петербург, но ему было отказано с формулировкой, что он должен стараться прежде всего «о прочном заведении и устройстве своего хозяйства, от коего мог бы со временем получить выгодную для себя пользу».
Между тем наконец-то слезные просьбы Катерины Петровны и ее матери были удовлетворены - в 1837 году они получили разрешение присоединиться к изгнаннику в ссылке. Продав последние вещи, мать и сестра выехали в Селенгинск и прибыли туда в марте 1838 года.
«Если бы Бог донес их благополучно ко мне, - и если создатель возвратит мне здоровье, то в этом маленьком городке, я уверен, можно было бы устроить тихую мирную жизнь и смотря на все мирское глазом человека, который однажды умер на… (многоточие в тексте - Р.Д.), можно жить покойно и быть довольным собою и семейною жизнью…»
Поначалу приезд родных словно бы возродил Торсона - он вновь попытался активно заняться хозяйством, выстроил дом, - неизбалованная, привыкшая еще в Петербурге и к физическому труду, и к нелегкой борьбе за существование, маленькая семья постепенно налаживала свою жизнь.
Я буду дальше цитировать очень много старых писем, - они скажут о происходящем гораздо больше, чем сумею я рассказать своими словами, - а главное, в них еще сохранился неповторимый аромат эпохи, которой прошедшие полторы с лишним сотни лет успели придать налет романтизма, вероятно, впрочем, неоправданный. И, возможно, ниже приведенная повесть покажется кому-то вполне современной, характерной и поучительной.
Николай Александрович - родным: «Катерина Петровна сделалась совершенною поселянкой, смотрит, как доят коров и загоняют овец. Константин Петрович нынче здоровее прежнего, и не жалуется больше на свой желудок, один ревматизм мучит его и в натуре и в воображении. Предосторожности, какие он берет от простуды, более вредят ему, нежели делают пользы. Он кутается столько, что вечно в испарине, и в доме его сидеть от теплоты невозможно… Болезненное состояние тела и несколько препятствий, необходимых при каждом начале, наконец, незнание характера жителей, с которыми он имеет дело, сделали его характер раздражительным и подозрительным. Он думает, что все эти беды случаются с ним одним, но в немногие дни, которые я провел здесь, я узнал, что эти вещи случаются со всеми старожилами и, рассказывая ему эти приключения в виде анекдотов, вижу, что это сравнение своего положения с другими его успокаивает».
Чуть позже: «Неудачи его по хозяйству и другим предприятиям, которые естественною частию проистекают от нашего положения - где мы не можем действовать иначе как чужими руками, а более по его недоверчивому характеру, увеличивают его раздражительное и ипохондрическое расположение, следствие коих отливается на его семейство, а более на добрую Катерину Петровну, которая с ангельским терпением старается его покоить. Он убежден, что судьба его преследует, тогда как он никак не составляет исключения и часто и сам бывает причиною своих неудач. Например, трехгодовые неудачи по хлебопашеству испытали и мы, и многие, но он только видит нерасположение судьбы к себе одному. Нынешний год и мы и он с хлебом, но зато у него другая жалоба уже на лицо. Целый год он жаловался на Бога, что ему он мешает кончить мельницу и молотильню - теперь и то и другое готово - но он недоволен, что они не могут ему доставить столько, чтоб покрыть издержки. Кто виноват? Он или судьба. Или не начинай делать, ежели он не предвидел выгоды, или сделав - старайся поправить деятельными оборотами плохие расчеты. Он, напротив, при первом шаге встретив небольшое затруднение, уже теряет всю надежду и только утешает себя мыслиею, что это должно было быть так, потому что он жертва преследования провидения… Деятельность его превосходит вероятие. Хозяйство его беспримерное, но труд его бесплоден. Он так устал от попыток, так напуган неудачами, что боится уже что-нибудь издерживать, чтобы не истратить опять по-пустому еще из малых своих остатков. Несколько подобных попыток обезохотили его и дали право жаловаться на судьбу и хандрить».
Его раздражала бездеятельность местного населения - нижеприведенная цитата хорошо отражает нравы сибиряков того времени (надо полагать, мало изменившиеся за прошедшие сто пятьдесят лет):
"Аккуратный немец Торсон не мог равнодушно переварить такой порядок вещей, особенно когда он по необходимости имел надобность в мастеровых при устройстве своей мельницы. Например, дело стало за какой-нибудь железной скобкой, заказанной соседу кузнецу, взявшему деньги вперед. Два срока уже давно прошли, Торсон идет к нему лично, чтоб узнать причину, и застает его лежащим на печке посреди нагих своих ребятишек. "Помилуй, - говорит Торсон, - что ты со мной делаешь? Из-за твоей лени десять человек рабочих сидят, сложа руки, потому что без скоб нельзя продолжать дело". - "Да, вам хорошо говорить, - отвечает тот, - вы сыты, а я другой день чаю не пил. Дайте остальные деньги, так авось сделаю". - "Да ведь, братец, эта работа одного часа не возьмет: сделай - и получишь остальные". - Нет, уже без чаю я не примусь за дело". Каков народец?"
Еще письмо: «Представьте себе человека, который видит все свои идеи похороненными заживо, все, что пылкая его душа могла придумать к пользе и добру - все это отстраненное, заброшенное, бесплодное; который много успел сделать, который много делает - но без результатов; которого труды увенчиваются одними неудачами; который желал бы хозяйством своим приобресть что-нибудь для успокоения своего семейства, и осужден видеть, как последние крошки уходят, не принося ничего, кроме убыли - вот положение его. Можете же представить, будет ли человек доволен судьбою и собой при таких обстоятельствах: вы легко поверите, что скучно и грустно, даже печально в продолжении всей жизни так невыгодно разочаровываться; вы поймете, что человек, который ходит по терниям жизни, не может иметь беспечного характера и весело смотреть на свое разрушение. Может быть он уже слишком берет свое положение к сердцу и видит безнадежность там, где другие видели бы возможность - но он всегда был таков: он хандрит, он жалуется на судьбу… Его характер испортился…»
Итог его сельскохозяйственной деятельности был невесел: "… кончил тем, что, устроив мельницу… и потратив на нее значительного часть единственного капитала, необходимого для существования, желал ее впоследствии сжечь, чтоб не иметь пред своими глазами вечного свидетеля глупости и неблагодарности людской" ("Воспоминания Бестужевых")
В последние свои годы он вновь вернулся к идее издания своих записок о флоте.
Михаил Бестужев - Сергею Волконскому, 17 марта 1850 года:
«Тяжело, а должно было ему дать понять и приготовить его к неудаче. Он видит только затруднение в испрошении позволения, а я так вижу там - только начало затруднений. Он не хочет сознаться, что в 25 лет тюремной нашей жизни свет очень далеко продвинулся вперед, а мы остались на одном месте. Ни по языку, ни по скудости его записки не могут увлечь публику, а в теперешнюю эпоху одно увлечение и может играть роль. Он этого, кажется, не хочет, или - по самолюбию - не может понять».
Так тянулось до 1851 года. К осени этого года здоровье его резко ухудшилось, и в декабре Торсон умер на руках у Николая Бестужева (предположительно от рака желудка)
Сестра писала губернатору Н.Н.Муравьеву после смерти брата:
«Смерть брата моего, для которого мы с престарелою матушкой решились оставить Россию и поселиться в Сибири, поставила нас в крайнее положение. Издержав на дальнюю дорогу и обзаведение большую часть нашего имущества, мы надеялись, что доброе хозяйство с моей стороны и труды брата обеспечат наше будущее существование - но Богу угодно было иначе: беспрерывная болезнь брата в продолжении 15 лет останавливала и уничтожала все попытки к улучшению нашего быта… Два последних предсмертных года, когда брат уже почти не вставал с постели, истощили остальные наши средства, и я сверх того должна была еще войти в долги, так что кроме Всемилостивейше жалуемого мне пособия в 500 р… я не имею ничего, чем могла бы содержать себя и успокоить мою 88-летнюю матушку… Я бы готова была работать, но здесь не много можно приобресть работою, к тому же душевные страдания, нужда и непривычные работы истощили уже мои силы.
… Осмелюсь надеяться, что вникнув в положение наше, Вы не усомнитесь ходатайствовать перед милосердием Его Императорского величия о судьбе нашей. Покойный брат мой завещал мне много рукописей, о которых он всегда изъявлял желание, чтобы они дошли до сведения высшего начальства. Если Вашему Высокопревосходительству благоугодно будет получить… рукописи, то я буду иметь честь переправить их».
Записи были переданы в III отделение, но вскоре возвращены обратно с революцией: «поскольку III отделение не имеет ни возможности, ни обязанности их рассматривать, так как они оказались не соединенными в одно целое, в… разрозненном виде и небрежно написанными. Передайте наследникам, чтобы они привели бумаги в порядок, составили бы из них нечто целое, и переписав самым четким почерком, представили вновь. Тогда уже я, рассмотрев означенные рукописи, дам решение, могут бы оные быть дозволены к печатанию»
Больше Екатерина Петровна попыток не возобновляла. Ее мать умерла там же, в Селенгинске, год спустя после сына, в возрасте около 90 лет. Через два года умер и Николай Бестужев. Три могилы и поныне составляют декабристский мемориал в Ново-Селенгинске - после отъезда Катерины Петровны за могилами ухаживал Михаил Бестужев, а после того, как и он выехал в Европейскую Россию - местные жители, в благодарность за всю ту помощь, которую они имели все эти годы от ссыльных декабристов (в частности, Торсон на своей квартире организовал ремесленную школу для местных детей, в том числе детей бурятов, а Катерина Петровна ухаживала за больными).
После амнистии в 1855 году Катерина Петровна получила возможность уехать из Сибири. В Селенгинске ее фактически уже ничего не удерживало, кроме могил. Дом она оставила Прасковье Кондратьевой (служанке и, по-видимому, гражданской жене Торсона в Сибири, от которой он имел двоих детей) и в начале 1857 года выехала в Европу «по серебрянке» - с казенным обозом серебряной руды - самый дешевый способ путешествия в те времена, - получив от казны 150 рублей на дорогу.
Сведения о ее архиве еще мелькают в последующей декабристской переписке - вроде бы бумаги Торсона были переданы для обработки также вернувшемуся в Россию декабристу Андрею Розену - среди наиболее интересных бумаг числились «Воспоминания о моем путешествии к Южному полюсу в 1819-1821 годах» и некий глобальный философский труд о материализме и устройстве мироздания. Неизвестно, вернул ли Розен бумаги Катерине Петровне или нет. Последние сведения о ней относятся примерно к 1858 году - известно, что она пыталась устроиться в лютеранский дом призрения «по бедности» - после чего след несчастной женщины и ее архива пропал бесследно…
(есть непроверенные сведения, что он выехала в Швецию к бывшей невесте своего брата Карен Стэнгрэн и там осталась, но точно об этом ничего не известно).
… И - вроде бы не осталось ничего - лишь обелиск в Селенгинске, да скупые строчки архивных документов. Архив пропал, воспоминания не найдены, Остров в Тихом океане был переименован, построенные сельскохозяйственные машины оказались бесполезны, подготовленную кругосветную экспедицию возглавили другие командиры, предложенные реформы по переустройству флота проводились под чужим именем… И даже портрета не осталось, - почему-то Николай Бестужев, рисовавший на каторге портреты всех своих товарищей, - не нарисовал своего ближайшего друга. Или рисовал, но портрет пропал вместе со всем остальным архивом? И только по строкам казенного описания, сделанным при отправке арестантов на каторгу, мы теперь можем узнать, как выглядел наш герой:
"рост 2 арш. 6 вершк., лицо белое, круглое, глаза голубые, нос средний, остр, волосы на голове и бровях светло-русые" - судя по описанию, внешность вполне заурядная.
По правде говоря, я не знаю, какие выводы должны воспоследовать из этой невеселой истории. Должно ли осуждать нашего героя? Сочувствовать ему? Пытаться понять? Что скажут слушатели нашего университета?
За сим же позвольте мне, судари и сударыни мои, откланяться с благодарностию за выслушивание моей маленькой повести и пожеланиями вам всяческих благ и благодеяний духовных,
Всегда ваша
Р.Д.
Июль 2001
(при написании этой лекции были использованы материалы А.Б.Шешина)