 |
(Бледно-зеленый) |
        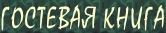    |
«Поезд из Тьмы во тьму» …Странно, но именно так: цвет этого лета – бледно зеленый. Оно уже подбирается к середине, и не так уж часто наползает пасмурь, но цвет этот никак не выцветет в желтовато-сухой или не созреет густо-зеленым. Он все тот же – полупрозрачный и чуть призрачный. Впрочем, в июне, пока передо мной не перестали мелькать опечаленные (еще бы не так: июнь, переэкзаменовка) лица репетируемых, гимназистов-двоечников, цвет этот часто был просто бледным. С серым оттенком. Теперь-то можно вернуть ему цвет. Хотя бы так: наведаться наконец к Ольге. Мы давно не виделись – последние месяца три разве что мельком, давно не говорили о том-чего-нет… Пустынная и тихая улица. Цвет листьев… да-да, тот самый. Может быть, от осевшей на них пыли? Ведь обычное, здешнее (до сих пор не говорится – наше) пыльное южное лето…Только чуть нереальное. Как будто именно его и нет… К калитке между грядками проходит ее матушка. - Здравствуй. А Оля уже уехала. - Уехала? |
- …три дня как. Но книги она тебе оставила. И записку какую-то, если мне только не померещилось – поверишь ли, в бумаги и дела детей предпочитаю без их позволения не соваться… Ты проходи. Посмотри, я и тебе мешать не буду…
…уехала. В экспедицию – это называется у нее именно так. Уже не первый год. Что-нибудь собирать – картошку, реликвии Гражданской, общественное мнение или народное творчество, собственный здравый рассудок после несчастного романа… Не знаю, что на этот раз. Разве что романа предположить никакого не могу. Не могу. Хотя – мало ли что может случиться за три месяца… И мне уже брезжит в этой неизвестности загадка, которую нужно разгадать – именно теперь и именно мне. …Тайна. Почти то-чего-нет. И я прохожу, конечно же, ради тайны и разгадки, ради оставленного послания, а не стопки данных для прочтения книг.
Листок посреди относительно прибранного стола. Одно слово, занимающее его по ширине почти целиком. Абсолютно непонятное слово – «Финакано».
А ведь это почти непременно - имя. На таких же листочках Ольга записывает имена для героев наших историй – ей они даются куда легче чем мне. Или, если записано имя уже известное – ей есть, что еще поведать о нем.
Но это имя я вижу в первый раз. Написать его – и уехать.
В голове само собой шевелится – «раз, два, три, четыре, пять – я иду искать». Ольгу.
Тайну. Неизвестного Финакано. То, чего нет.
Ольгин брат, молчаливый долговязый юноша, внешне не очень-то на нее похожий, вошел в комнату как раз тогда. Принес ящик с инструментами, слегка кивнул и тут же, рядом, начал развинчивать их двухэтажную кровать. Не иначе как с тем, чтобы укрепить – в маленьком домике трудно найти больше места, они так и спят на ней со времен детства, и на нижнюю, его, кровать, так и летят сверху подушки…
Кажется, это он недавно был в отъезде. Недалеко, у той самой их родственницы, которая… У нее одним словом, поскольку я никак не могу уяснить себе, бабушкой, тетушкой или кем иным приходится ему и Ольге та женщина в коричневом платье с решительным лицом, чья фотография – единственное украшение стен их комнаты.
Он выходит из комнаты и возвращается с большой кружкой воды. А ведь та рубаха, что сейчас на нем, не иначе как привезена оттуда – то ли перешитая из форменной, то ли от кустарно пошитой формы, чуть выцветшая (но еще вполне правомерно назвать ее темно-синей), с шитьем серебряной нитью по широким манжетам – три листа сверху и пять колечек (три и два) ниже…
- Павел, друг мой, ты знаешь, кто такой Финакано?
- Финдекано.
- Что?
- Финдекано. Там неправильно написано. Я внимательнее прочел. А ту рыжую с Говорильни не слушай – она еще и не такую глупость несет. Я вообще не понимаю, зачем было Ольге ей доверять что-то…
На сем его разговорчивость на сегодня, кажется, и завершилась.
Мне непонятно, но достаточно.
Говорильня. Теперь мне туда, на набережную, в старый (с довоенных времен уцелевший) скверик.
…Все началось здесь. Нет, для нас как раз все началось раньше. Гимназия, девичьи пересуды – иногда мне кажется, что мы сошлись именно как две приезжие, клятвы в вечной дружбе под портретом Ее Наследного Величества… И то, что вытеснило понемногу пересуды и сплетни. Истории. О том, что происходит в неведомо каких землях – вовсе неведомо, мы не заглядывали даже в древность, не говоря уж о временах недавних.
…В отличие от многих – вот для них как раз все и начиналось здесь.
ВИР. Военно-историческая реконструкция – так официально. Немало, говорят, распространенное по иным городам «ВИРодки» у нас так и не прижилось. Может быть, за отсутствием тех оголтелых и рьяных, по которым и бьют обычно прозвищем. При том само собой образовалось полуехидное и почти обидное «показушники». Зато – по самой сути. И горожанам приятно по праздникам, и прибредающих со столичными газетами порой размышлений о «несчастных детях, что никак не могут приспособиться к мирной жизни и перестать играть в войну» почти не слышно. Кстати, играют, насколько я о них знаю (а знаю – мало) не только в Гражданскую. Понемногу – и кое-что иное, завершая едва ли не древними русичами. Говорят, это не вполне обычно. Может быть.
А еще говорят, что придумал это… ну да, Олег. То есть Ярл. А еще точнее – Ярл-красулица-наша.
…Прозвище, ежели и ехидное, то ровно в той степени, в которой за ерничеством скрывает если не зависть, то уважение. Да, красив. Той степенью красоты, когда она несомненно заметна – и притом не чрезмерно и не доходит до опасной грани, за которой мужчина кажется женственным. Да, две косы и серебряные шнуры, за что и Ярл. Да, взялся за эту не столь уж легкую Реконструкцию первым в нашем городе, собрал вокруг себя народ…
А еще – в свои двадцать с небольшим в общем-то глава семьи: мать и сестры. Отец – сами понимаете. Не почетно, не позорно. Как у всех. Там и тогда.
Сначала его называли все-таки по имени – Олег. Я даже застала то время, когда красулица-наша было только прозвищем, и прибавлялось к имени, именно прибавлялось, а не срослось еще в длинное, еле-еле в один дух произносимое прозвание.
Ольга утверждает, что так было – едва ли не один вечер, ну уж точно – всего несколько дней, и я, придя, застала исторический момент.
…Ольга ведь изредка приводила меня во владения Говорильни. Изредка, не чаще – нам хватало наших историй, тех, что на двоих. По крайней мере, хватало мне. Она-то появлялась там весьма часто. Водила знакомства, может быть, не только слушала других, но и сама ввязывалась в сотворение чего-нибудь… В этом странном месте, потихоньку собравшем всех, кому хотелось чего-то необыденного (а таковы были ВИРовцы), но мало связанного с владением оружием и ношением формы любых времен – да и просто с недавней Гражданской. Хотя другие, напротив, по ее рассказам, истово интересовались ею, - но скорей для создания какой-нибудь длинной истории со многими действующими лицами. Называлось все это странно и вовсе уж несолидно – Говорильня. Называлось – и «показушниками», в обмен на собственное прозвище, - да и самими обитателями. «У Говорильни кризис самоидентификации», - произнесла как-то Ольга задумчиво. Уважительно звучащим названием им покуда обзавести не удавалось.
…Наверное, как и точным определением того, чем же они занимаются. И – зачем. О первом я бы еще могла высказаться – наше, родное то, чего нет, или же - не было (как в тех историях о Гражданской). А вот о втором… Я и сама не знаю, зачем. У нас просто получилось так – и не получается иначе. Наверное, и у них тоже…
Ранний вечер середины лета. Еще почти раскаленная решетка набережной – и не до конца прохладная тень деревьев, потому что на самом деле – полутень, с прорехами и солнечными проплешинами, но большая часть небесного света все-таки доходит до земли, именно просочившись сквозь листья, чуть остыв, да еще сменив цвет – да, да, на тот же призрачно зеленый…
Гуляющие под деревьями. Видимость хаотического движения – в нем есть закономерности, нити знакомств, обязательства встреч… Я – вне их. Хотя кое-кого наверняка знаю по именам – но не в лицо: от Ольги.
Хотя…
Сегодня не так уж и многолюдно. Многих нет. Кажется, нет именно ВИРа, собирающегося обычно здесь же. Что у них? Загородный лагерь? Поход? Уехали куда-то? Почему бы нет – Ольга же уехала…
Яркое рыжее пятно – почти навстречу мне. «Та рыжая». Может быть, их больше одной – почему бы им не знать друг друга. Внезапным, но менее ярким пятном вырастаю, наверное, перед ней я. Незнакомы. В гимназию – не репетировала.
- Привет, ты…
Это она. А говорить-то нужно мне. Что говорить? Наверное, напрямую?
- Знаешь… Привет, я… Я ищу… Финакано.
Я совсем не знаю, можно ли спрашивать так, спрашивают ли так – на Говорильне. Совершенно не знаю. От этого у меня успевает случиться в рассудке некая пауза – которой, похоже, нет в самом разговоре. Судя по реакции отвечающей.
- …Она тебе тоже обещала? Ольга? Вот, вот именно, я тоже жду. Но теперь… когда? Она же уехала…
Уехала. Мы вернулись к тому, что я и так знаю, от чего пляшу. Теперь нужно, наверное разоблачаться, признаваясь, что ничего мне не обещано… Хотя – записка? Чем иным может быть записка? И принято ли здесь так – доверять записям таинственного вида и смысла?
Но пока я хватаюсь за хвост логического разговора.
- Да, уехала. Ты знаешь, куда?
- Да, знаю, да только… Я думала вначале – сколь невежливо, теперь придется ждать, так трудно вытерпеть, но теперь я уже не обижаюсь, просто не понимаю, сколько мне ее дожидаться… Я даже была там, почти без толку, правда. И не поняла, совсем не поняла – надолго ли… Да и писем от нее не было там – никаких.
- Но куда она уехала? Ты ведь знаешь?
…самый кончик логической нити. Уехала, и к ней можно доехать, но при этом письма оттуда – или, почему-то – там?
- Конечно, они там, где все знают…
- Я не знаю.
Честно, совсем честно. Рыжая грива чуть меняет контуры – она хихикает.
- Ну… у реконструкторов.
- …Сестра моя, не соблаговолишь ли ты все же не засорять наш слух этим иноземным словом?
Это не она. И не я. Это молодой человек, увенчанный в чем-то схожей гривой, но настолько светлой, что я сомневаюсь, что он ей действительно брат – точнее, что он остается ей братом, уходя отсюда, в дом и к родителям.
…А вот теперь уже она:
- …А как ты предлагаешь? Нет, я знаю… Подожди, дело вообще не в том! Я о доме говорю, о том самом доме – в деревне, то есть в поселке – он и называется Реконструктор, правда Реконструктор, ты-то там не был, а я только вернулась…
Поселок. Дом в деревне. Я хватаюсь за нить – и по наитию едва ли не хватаю за рукав молодого человека:
- А вы знаете… просто – где это?
На лице его – легкая досада, а в голосе – любезность:
- Безусловно. Я не имею никакого отношения… к ВИРу, но моя сестра…. Она благополучно выбралась из путешествия, как вы видите, но сумеет ли она его достойно описать, так, чтобы вы могли его повторить…
Мне объясняют дорогу. Велеречиво объясняют. Солнце касается решетки и пересекает ее черту. Дорога ведет в соседнюю область. Мне ухитряются объяснить попутно, почему «иноземное слово» реконструктор едва ли применимо – возможно, даже в том случае, когда речь идет об обитателях загадочного поселка. Мне объясняют, что чтение столь мало доступной в нашем городе иностранной литературы, конечно, благо, и Ярл, вероятно, делает небесполезное дело…
…красулица наша…
В сквере настойчиво темнеет. Я выпутываюсь.
Завтра.
Не столь уж далеко и вовсе не тайно, а потому – в путь.
«Раз, два, три, четыре, пять – я иду искать»
…Кто бы мне объяснил, при чем тут Финакано?…
Дорога неинтересна вовсе. Переправа, пыльная станция (у степи иной цвет – бледно-желтый), медлительный дизель, углубляющийся в соседнюю, приграничную область, но мне выходить раньше, чем появятся патрули…
Так что я размышляю. Об Ольге, что вовсе неудивительно. И о ее семье – тоже. У меня нет привычки видеть тайну и секреты мировые под каждым кустом, считать соседа шпионом, как в детстве не было привычки – считать его же колдуном… Но в ольгиной семье, совершенно обычной на чей угодно взгляд, для меня почему-то есть некая, не имеющая собственного постоянного места, тайна. Она подсовывает мне странные мысли, заставляя вообразить вдруг, что ее моложавый и такой же светловолосый отец – на самом деле ее старший брат, а кто Павел… - я не знаю, кто, и их родители… - может быть, та, таинственная она? …И некто, в военной форме, в офицерской форме, с теми самыми косами, и даже лицом будто бы походил он на Ярла-красулицу-нашу… Виденный однажды – на фотографии. Другой, не той, что на стене (там она – одна), как-то лежавшей у Ольги на столе. Легкая коричневая дымка – и трое: двое мужчин стоят позади женщины в кресле. Еще – драпировка и, наверное, искусственные цветы в высокой вазе – чудом сохранившееся к тому (какому?) году Гражданской со всеми своими атрибутами фотоателье… Рядом с тем стоял еще один офицер (мундир – другой), но я сразу поняла – тот, первый, мне помстилось – именно тот: так уж лежала его рука на плече ее, сидящей… Да и тот, второй, был хоть и рядом, а как-то отчетливо наособицу – и взгляд куда-то в сторону и чуть сверху (впрочем, второе –скорей от немалого роста), и стоял чуть ли не навытяжку, руки за спину (а все равно ощущение такое, что его ветром уносит, а он держится)… Ну да не о нем история вроде бы… не о нем, ведь так?
И другие, не менее полубезумные мысли… Они рано или поздно сходились на ней. Но сейчас я еду совсем за другой тайной, хоть бы от нее что-нибудь узнать…
Или это снова та же самая, «блуждающая» тайна?…
На дороге, уходящей, кажется, в бесконечность (она видна за невеликим поселком), под табличкой, покосившейся и до бесконечности странной – «п. Реконструктор», стоит юноша в полной форме Второй Северной. Ему, наверное, жарко. Он, возможно, размышляет, как вывеску возможно поправить. Он, безусловно, знак для меня – я приехала по нужному адресу. Только нужно еще немного пройти по дороге.
У нас никогда не было сельского дома – ни там, у гор, ни здесь: мы сразу переселились в город. Я толкаю – «будет не заперта» - калитку и, входя, осматриваюсь, как в ином мире. Нет, ничего необычного… Двор, сад чуть вдалеке, за еще одной оградкой, дом слева, справа, наверное, кухня, за ней навес – к которому и иду, - с немалым обеденным столом…
Я даже вопрос задать не успеваю: некто, восседающий над ведром картошки в позе воистину величественной, неторопливо поднимает голову и возвещает:
- Они – там. На клубнике.
Пауза не менее величественна.
- Все ее собирают. Кроме нас троих.
В направлении жеста, под навесом –две девушки, за шитьем, мелькает темно-синее и серебро, отблеск ткани… Кажется, рубаха. Мне словно на ухо кто-то подсказывает:
Красулице Нашей. Ярлу.
…И дом ведь, кажется, если не запуталась я в объяснениях вчерашних, тоже – его, или - какого-то его родственника, которому он вовсе не нужен…
…Уехала. Уехала – к Нашей Красулице?
Все пытается немедленно стать ясным, только мне этого почему-то отчаянно не хочется.
…Уехала к Ярлу, пополнила ряды очарованных тайно или явно, даже клубнику теперь собирает, которую не любит и не ест и на домашних грядках к ней не притрагивается…
Как-то слишком просто получается. Просто, безнадежно и глупо. Непохоже на Ольгу. Безнадежно – было, и не раз, и находилось, что собирать в себе, собирая еще что-нибудь… Но глупо? Непохоже, совсем непохоже…
…Я шла искать – и в конце концов хотела найти. Над десятком спин, склоненных над грядками, я крикнула:
- Финакано!
Обернулись несколько, а голос, Ольгин был от той фигуры, которая даже не пошевелилась:
- Сгинь, несчастная! Я же тебе…
- Финакано! Ольга!
…Разогнулась. Обернулась.
- Тьфу, Ленви! Я-то…..
И побежала, прыгая через грядки, и что-то объясняла полувнятно – даже из этого я вычислила ту рыжую, успевшую за эти три дня добраться сюда, - а думала о ней Ольга, судя по всему, немногим любезнее, чем Павел…
Так мы и объяснялись некоторое время – посреди клубники. Мало того, что на руках у нее было красное, так еще на блузке, нарочно для таких работ затрапезной, но светлой, были следы, наверное, той же клубники, только собранной вчера. Или третьего дня.
…Наверное, жара на меня давила – слишком похожие на пятна крови. «Как бинты» - мелькнула мысль, и на секунду охватила собой такая отчетливая, реальная жуть – «Что же крови столько, совсем неладно, чем его - так…» - но ведь оттого, чего никогда не было - со мной не было…
Все оборвал звон. Неожиданно ясный и высокий звук – я даже обернулась в поисках колокольни. Вместо нее над ветвями сада виден был тот самый юноша – то ли на крыше кухни, то ли на вышке какой-нибудь специально устроенной, колотивший во что-то, запрокинув голову – лицом к небу. Предмет колочения виден не был.
- Ольви, это… во что?
- В медный таз, - ответила она совершенно серьезно с последним, третьим ударом.
Кружение лиц и речей, сопровождавшее обед – не запомнилось, все до сих пор чуть плыло перед глазами – от жары, да билось ожидание разъяснения – разговора – тайны…
- Вы после обеда не работаете?
- Нет, только… дело у меня одно есть, поверь, необходимое совершенно… Ты посиди тут же еще немного, тут – петь будут…
Она растворилась куда-то сразу после обеда. Я огляделась – Красулицы Нашей не было. Тоже. Впрочем, оставалось сказать себе, это ничего не означает – не было видно уже примерно половины присутствовавших за столом. …Наверное, тоже - свои дела…
Пел – тот же юноша, похоже, навсегда облюбовавший себе окрестности стола. Так же, как и держался – несколько отстраненно, неторопливо, словно сознавая важность каждого слова. Не убаюкивало, но – песни текли и не задевали, я даже не помню, сколько их было. И вдруг – не с первой строки, посередине столь же неторопливой и плавной мелодии – словно царапнуло… …Старый город. Никогда мной не виданный, но сейчас сквозивший полупрозрачным, но отчетливо различимым видением. Руины – и, кажется, обитаемые дома со светом в окнах, может быть, даже фигуры людей – но все прикрывает легкая пелена тумана…
…Ты сердцем знаешь слезы многих бед,
Печаль и горе этих страшных лет.
Ажурных башен тысячи стоят,
На солнце шпили яркие горят,
И колокольный звон легко зовет
Виденья прошлые чудесных дней,
Они ушли, оставив пыль путей…[*]
За песней неумолимо проступала тайна – наверное, его собственная, хотя стихи, кажется, чужие (он называл авторов перед каждой песней, а я не запоминала), и этот колокольный звон, несколько раз вернувшийся в стихах, напомнил мне, как певец отчаянно колотил «в медный таз»…
Я не заметила, как песня закончилась. Но, похоже, открытием она была не только для меня – окружающие спрашивали о ней.
А юноша отвечал даже не столь отстраненно:
- …из книги, откуда еще? Ярл исхитрился, как и бывает, где-то ее раздобыть. Знаете ли, весьма любопытно, сборник британских поэтов – молодых… тогда, погибших в Мировой войне. Да, той еще, такая вот древность получается…
Книга, оказывается, лежала прямо перед ним – и он развернул ее, а мы потянулись с разных сторон к ровным и неровным строкам, видневшимся на развороте. Едва наклонилась, бросилось в глаза – «Tolkien, John Ronald (1891 – 1917)». И, словно от наклона же, колыхнулся, став на мгновение снова явным, во мне тот город – нашего ли певца, того ли безвестного, навсегда молодого английского солдата, или… И стало ясно, что я сейчас же отправлюсь искать Ольгу – и разъяснения хотя бы той тайны, о которой имею, кажется, право что-то знать.
…Все-таки я выросла у гор, пусть невысоких, и до сих пор не могу принять всерьез абсолютно плоскую поверхность, подобную здешним степям, и ровную линию горизонта.
И потому стало как-то легче, когда за садом (чуть в другую сторону, чем клубника, но дальше ее), увиделся мне не просто силуэт Ольги, но и то, что сидит она на небольшом курганчике.
…И жара спала, а на курганчике лежала тень от деревьев сада, и миру возвращался понемногу привычный уже цвет…
Рядом с ней, на доске, похожей на небольшую чертежную, лежали письма, прижатые камнем. По этим исписанным листам, по обращению верхней строкой было сразу понятно, что это именно письма.
Я сначала просто присела молча – в окружающем молчании было что-то совершенно правильное, его не стоило рушить.
..А Ольга словно продолжила начатый разговор:
- Я сюда удрала, чтобы разобраться с ними – видишь? В городе, даже летом – тем более летом – совсем все же не то получается. Я пока не уехала, наверное, до конца не понимала, как же это сложно и важно. А ведь я их не сразу получила, пришлось просить, и у нее были свои резоны, - были и есть, - до сей поры их не отдавать и быть уверенной, что еще пригодятся…
- У нее?
- Ну да, ты знаешь. …И тут ведь не в том дело, что не решишься сказать, мол, мало ли у кого без вести пропавшие, почитай, всех давно за давностью лет погибшими признают, или уж были причины никогда не вернуться… Не только в том. И знаешь ли, не в бою, не в разведке, даже не при захвате территории. Он просто ушел.
- Куда?
- На Запад. – И, на мой все еще вопрос, только уже не говоримый, - Она всегда говорит только так. Ни на слово – подробнее. Как будто есть такое место и можно туда добраться – Запад… Да, ушел и пропал вовсе… хотя, может быть, и приходил после – однажды…
Реплика моя была вроде бы совершенно не отсюда, но буквально скатилась с языка:
- А… Финакано?
- Финдекано на самом деле. Я…вычитала неправильно поначалу. Почерк дрожал, - да там поначалу порой и вовсе невообразимо что, а не почерк! А потом уже яснее – вот, посмотри!
Она подала лист, и из середины строки и абзаца ясно выглянуло «Финдекано».
Я не удержалась:
- Как Павел… …Павел мне то же сказал.
- …Братец? …Читал? …Однако, мне весьма интересно, именно эти – или он получил позволение… а то и вовсе получил еще письма…
- Он рубашку получил. Синюю с серебром. И кружку оловянную, по-моему.
Мне почему-то именно сейчас показалось ясным, что той, принесенной им кружки я тоже никогда раньше не видела в ольгином доме.
- …рубашку… Ладно, потом. Я тебе лучше все-таки покажу. То самое. Не его конечно – к нему. Как и вся пачка. Это я и перепечатать успела – на свою голову, выходит, и не только из-за неправильного чтения…
Она вытащила двойной лист откуда-то из низа пачки, не столь уж увесистой.
Почерк только мелькнул, но, кажется, там действительно было что-то не слишком вообразимое.
И она принялась читать, поглядывая время от времени туда, в степь, в противоположную сторону от заката.
«…и вот тебе еще о не самом веселом, Финдекано. Сейчас, по поздней осени, здесь зарядили такие дожди, что все, кто только уже успел повоевать, предсказывали всем старым ранам напомнить о себе, коли и не немедленно, то в ближайшие дня два. Веришь ли, я почти обрадовался поначалу: если уж здесь мне пока досталась та единственная рана, что донимает не болью, ни каким иным ощущением, а полным отсутствием оных, то вдруг под эти бесконечные дожди – хотя бы отзвук? Если так, то начну с малого, мне ли - привыкать… И знаешь, ничего. А я даже пальцы пережимал – до хруста. Ничего. Совсем. Так и забываешь то и дело, что рука вообще-то на месте, вся, до кончиков пальцев, - кто бы еще объяснил, какая с того польза? Да еще «привычная» левая до сих пор вытворяет со здешней письменностью именно то, что тебе приходится сейчас читать, а то и пытается не вытворять вовсе… Это особенно любопытно постольку, поскольку на меня постарались, кажется, навалить всю возможную бумажную работу, затем, что … а впрочем, почему бы и нет, а впрочем, можешь ее себе представить, всю, до записи приказов со слуха…
Так вот, неудача моего «эксперимента» с участием здешнего климата опечалила меня даже несколько больше, чем ожидал сам. Простая и прозрачная истина: и здесь – все с начала. Еще раз. За что и зачем? Чего ради, как спрашивают сами себя многие из тех, что вокруг – и по многим поводам? Как ты понимаешь, мне не более прочих известен ответ…»
Ольга умолкла – наверное, услышав тот хруст травы за спиной, который я заметила только тогда, когда чтение оборвалось. Очень тихий и осторожный.
К нам со стороны сада шел Ярл. То есть… нет, все-таки именно Ярл. Чуть ссутулясь, словно специально старался, чтобы концы обеих кос (сейчас ничем не переплетенных и потому уже чуть распустившихся на концах) мели по верхушкам сухой полыни и прочей степной травы, почти смыкавшейся над дорожкой.
И еще пока он просто шел, я осознавала то, что должна была – уже увидев письма (да все внимание было занято – ими): глупо и просто все уже не будет. Ни за что.
А он тем временем заговорил – и совершенно некомандным голосом:
- Надеюсь, ни одна из вас не сочтет мое вторжение за назойливость, - я всего лишь беспокоюсь о вас. Сейчас, конечно, уже далеко не военные времена, и все же живем мы не столь далеко от границы… Да есть и иные причины, по которым мне хотелось бы просить вас не оставаться здесь в одиночестве ночью и вечером, - а сейчас уже начинает темнеть. К тому же весьма скоро всех нас будут иметь честь пригласить на ужин…
Он сделал полшага вперед и чуть наклонился, вглядываясь в лист письма. Но едва встретив взгляд Ольги отвел свой и переспросил (едва ли не робко!):
- Это…
- Тот же текст, что ходит отпечатанный, только в нем оказалось полным-полно неточностей… Вот и готовлю новый вариант. Пока готовлю.
- Ты… покажешь?
- Когда будет что. И другие тоже – позже. Покажу…
Ярл кивнул и отправился обратно, в сторону сада, а я все больше осознавала, что все не просто, совсем не просто, и хуже того – все совершенно реально. Передо мной - то, что было, -, но я уже ввязалась в него и останусь при нем, наверное, пока не выясню все, что только возможно…
А Ольга поясняла то, что сейчас казалось самым важным – ей:
- Знаешь ли, князь наш Штефан с сестрицей Софией не устают утверждать, что я на здешних хлебах новую ересь устанавливаю, не иначе… точнее, на здешней клубнике и мальвах, которыми ничуть не питаюсь, а правды в этом никакой нет, мне просто неимоверно хочется разобраться, - и я как раз подумала, что, возможно, тебе…
Весть о несъедении мальв я слышала, в отличие от клубники, впервые, но она меня как-то вовсе не удивила.
А тем временем ударили в медный таз, и пора было уходить, подбирая бесценные пожитки.
И вот что осталось непрочитанным в тот вечер:
«…Нам как раз пришло время перебираться на новое место, и в поезде мне попался в попутчики почти вовсе незнакомый офицер, поразительный юноша, - проницательный ровно наполовину. Он ухитрился угадать причину моей печали, но от своих не вполне складных утешений быстро перешел к собственной идее, казавшейся ему блестящей: мне следует непременно напиться, причем мне, иностранцу, с таким же иностранцем, как и я
.
Он был уже на той ступени опьянения, когда могут еще не подводить ноги, но конструктивный разговор, и тем более – спор почти невозможен.
- Ты ведь еще молодой, если по правде, Нельо…
(Да, добавь к его проницательности еще и то, что он запомнил не так уж часто говорившееся мною имя… то, что стало здесь именно именем).
- …ты еще молод, я вижу, я смотрю тебе в душу, и держишься молодцом, а вы поговорите с ним о родном, о родине, и тебе легче будет идти дальше… Ну что я поделаю, Нельо, если из Ирландии в эти края не занесло, наверное, никого, не плывется им через море, но ведь я поищу, подожди, я найду…
Можешь себе представить, он обнаружил его – через два перегона. Вот только оказался приведенный господин румыном, причем еще какого-то хитрого происхождения, ускользнувшего от меня – как ни утверждал мой попутчик, что все-таки нашел англичанина. Он перепутал знание языка и национальность. Впрочем, о знании… Мне еще не пришлось услышать, как должен звучать этот язык в устах того, кому он будет родным, но его английский был поистине ужасен. Мне оставалось только притворится пьяным до последней степени, тем более, что его тщетные попытки объясниться по некой странной закономерности вызвали совершенно неожидаемое желание – действительно заговорить на родном языке, а ведь я не позволю себе этого, и, как видишь, даже эти письма…»
Письмо заканчивалось прямо здесь, после этих слов, какой-то вовсе неразбираемой закорючкой, о которой нельзя было даже с уверенностью сказать, к какому алфавиту она относится.
Впрочем, ему не раз случалось заканчивать письма столь внезапно – там, где были высказаны все мысли, отвлекала надобность службы, а порой просто уставала рука.
…Пока шли обратно, к саду, небо над головами, приобретавшее в предсумерках сероватый оттенок, поневоле (и совершенно наперекор погоде) казалось обещающим затяжной дождь, а запрокинутое к небу лицо «звонаря» наводило на мысль о том, что ему хочется во весь голос завыть – именно в это небо.
25-28.02.03
P.S.
«Несовпадения в пространстве
Мы не заметим –
Просто мимо
Пройдем рассеянны, бесстрастны,
Рассеемся, как струйки дыма.
Несовпадением во времени –
Тоска о том,
Чему не сбыться.
Бессмысленное озаренье
Томящегося ясновидца.»
Д. Самойлов.
(Данный пост-граф предложен и набран по прочтении рассказа Одной Змеей, за что автор ей всячески благодарен. – К.)
[*] Из стихотворения «Город нынешней печали», в нашем мире опубликовано: Дж.Р.Р. Толкин. История Средиземья. Том II. Книга утраченных сказаний. Часть II. – ТТТ, 2002. Гл. VI. Пер. И. Лисицкой. С. 297