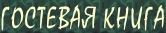… Она неподвижно сидела на обочине и бездумно жевала травинку, а машины проносились мимо нее. Женщина сидела прямо на голой земле, на остывшем грязноватом сером песке: неудавшемся детище индустриальной эпохи, - и выглядывавшие из окна водители смотрели на нее, окидывая - кто равнодушным, кто чуть удивленно-заинтересованным взглядом, впрочем, едва ли не сразу сменявшимся тем же равнодушием: она была некрасива, да уже и не слишком молода. Полноватая неуклюжая фигура, круглое, хотя и достаточно правильное лицо, очки, короткая стрижка… Хорошая одежда, - и потертые стоптанные (хотя, видно, тоже некогда дорогие) туфли на больших ногах. Однако женщина ждала чего-то, - или кого-то, - и странное это голодное ожидание отражалось в серых бездонных глазах, полускрытых толстыми стеклами очков. Машина затормозила резко и внезапно, едва не наехав на женщину, - она отшатнулась, чуть попятилась назад. Водитель - верзилистый дядька средних лет, остро пахнущий потом, дешевым куревом, чесноком и, - едва уловимо, - спиртным, - протянул ей руку, словно желая помочь подняться. Она не шелохнулась и почти не посмотрела в его сторону.
-- Пойдем же! - сказал уже настойчиво и посмотрел на нее с укоризной: мол, что же ты, сама тут сидишь, - и так близка, так доступна… Она пахла теплом, молоком и какой-то особенной тихой добротой. И сумочка рядом валяется, как будто бы тоже приглашающе раскрытая, - и рассыпанная в беспорядке дорогая косметика так неуместно выглядит на этой пыльной дороге. Хорошая, здоровая женщина, - вот только взгляд отстраненный, в себя, и качает головой молча… Потом она сказала:
-- Я жду другого, - и снова молча отвернулась. А в глазах ожидание застыло, переплавляясь звездным светом неведомых миров… Миры? Звезды? - да нет же, это у нее очки так бликуют, - а одна дужка вон, сломана - починила бы. Или заказала бы себе новую оправу - видать денежки-то водятся. Неудачливый водитель еще потоптался на месте, в недоумении глядя на странную женщину, и, наконец, решительно вернулся к своей машине. В конце-то концов она была совсем некрасива.
Она не вздрогнула, когда машина завелась и рванула с места. И долго еще сидела, провожая взглядами нечастые проезжающие "Лады" и еще более редкие на этой провинциальной дороге иномарки, и бездумно жевала свою травинку. А блеклое, чуть розовеющее небо все не темнело, и не темнело… Наконец она встала и медленно, чуть прихрамывая, пошла куда-то вдаль по дороге: казалось, что направление ей совершенно безразлично. Какой-то документ - не то письмо, не то рисунок, - выпал из ее раскрытой сумки, - но она даже не оглянулась.
Она взяла анкету в отделе кадров. Улыбнулась застенчиво новой, малознакомой, кадровичке:
-- Я бы хотела дать эту анкету своему мужу. Я бы хотела, чтобы его приняли на работу.
Стоявшая рядом старая начальница отдела кадров, Мария, немедленно навострила ушки, уставилась на Веру своими колдовскими, в кругах-потеках темной туши, глазищами, - считала себя неотразимой, пропела приторно-сладким медовым голоском:
-- Как, Вера, ты вышла снова замуж?
Она была беспечна. Она не почувствовала издевки в голосе кадровой примадонны. Мария - бисексуалка, у нее муж отличный и ребенок прекрасный, но это вовсе не мешает ей сожительствовать с другой сотрудницей фирмы "Дориат" - блистательной Аллочкой Сафроновой: лесбиянкой, холостячкой и одной из лучших торговых агентов. Строгая темноволосая Мария и выкрашенная в неведомые цвета радуги Аллочка всюду ходили вместе, нежно обнимались и выглядели как неразлучные подружки. Впрочем, Вере до этого не было никакого дела.
Надо было ответить Марии, и она, в задумчивости, ответила странно:
-- Я не вышла замуж. Это просто мой муж вернулся.
Мария понимающе кивнула: видно, Вера каким-то чудом помирилась с мужем, с которым развелась двенадцать лет назад. Что же, и не такое в этой жизни случается.
За последние месяцы уже многие на фирме замечали, что Вера изменилась - резко похудела, изменила прическу, почти полностью изменила гардероб. Кое-кто даже стал украдкой посматривать в ее сторону. И все же Вера оставалась синим чулком - странным замкнутым человеком со странными увлечениями, никогда не конфликтовавшим, но и никогда не сходившимся ни с кем близко в коллективе. Приятным, добрым, спокойным, - и в то же время абсолютно неизвестным человеком. Мария не могла поверить в то, что какой-либо мужчина мог всерьез увлечься такой женщиной, как Вера. А впрочем, Марии тоже не было до Веры никакого дела.
-- В какой же отдел просится твой муж?
Вера чуть замешкалась. Наконец сказала решительно:
- Я возьму его своим личным помощником
-- Если Свиньин тебе утвердит ставку.
Свиньин был новым наемным генеральным директором, которому обленившиеся владельцы фирмы передали практически полностью бразды управления: заработав себе достаточно денег на спокойную старость где-нибудь на Мальдивских островах, они могли больше не обременять себя каждодневной нервотрепкой, неизбежной в мире нестабильного российского бизнеса. Вера про себя называла новое начальство деятельным дураком - такая категория людей стойко вызывала у нее в памяти ассоциацию со стихийным бедствием. Верка - трудоголик и ответственнейшее в мире существо - любила свою работу, но, столкнувшись несколько раз с дурной инициативой Свиньина, сникла и как-то слишком быстро перестала трепыхаться.
Однако она согласилась неожиданно легко:
-- Если Свиньин мне утвердит ставку.
Мария поморщилась и сочла необходимым добавить (ох, этот назидательный тон…):
-- Я надеюсь, что ты не приведешь на фирму этих своих толкинистов, которые с палками бегают по лесам.
Вера усмехнулась чуть заметно, сказала:
-- О, нет. Просто он спортом занимается…
На следующий день Вера принесла в отдел кадров заполненную анкету. И если, наивная, полагала, что после этого на фирме кто-то поверит в то, что она не связана с этими "ненормальными толкинистами и неформалами", то она совершила страшную ошибку. Потому что с наклеенной на анкету фотографии на дориатских кадровиков смотрел молодой еще, красивый мужчина в форме и эполетах русского офицера начала девятнадцатого века… Цветное фото - чуть неестественное, будто пересъемка со старинного портрета, - и золотистые, светло-каштановые, вьющиеся волосы…
Вечером Вера выгнала своих родителей. Сын ластился к ней - целую неделю она, без особенной охоты согласившись на престижную заграничную командировку, не видела своего ребенка. Крылатый Уш - так звала она своего сына, - ревел горестно - сильно хотелось заткнуть уши, - и требовал, чтобы ненаглядная мамочка полетала с ним на игрушечном самолете. У еще нового самолета-инвалида было отломано одно крыло. Интеллектуалка Вера терпеть не могла все эти самолетные и автомобильные гонки и порывалась усадить ребенка - резвого и избалованного четырехлетку - за развивающие игры с кубиками, мозаиками и счетными палочками. Уш плакал еще громче и топал ногами. Самолет на батарейках захлебывался отвратительными чавкающими звуками, невнятными гудками, простуженными всхлипами. Играла в комнате кассета с записями толкинистских песен. Морщась от шума, Вера беззвучно подпевала: "Ты славить его не проси меня…" И против собственной воли всхлипнула - вечер, а она опять одна. Стол накрыт, глаза накрашены тенями "Ланком", Уш наряжен в свои лучшие джинсы - а Сергей ушел. Снова бросил Верку… Вернулся обратно к себе - но куда? В могилу, затерянную в меловых отвалах на побережье Финского залива? Если ему так лучше, спокойнее… Если он слишком устал здесь… Если так, то… Да полно, было ли? Вот и Уш не вспоминает про доброго "дядю Сережу". А если и спросит вдруг поздним вечером, уже в постели, в полусне: "где мой папочка?" - то можно сказать, что папа в отъезде. В долгом-долгом отъезде. На Балеарских, Мальдивских, Гавайских, Гренландских островах… на острове Тол-Эрессеа. А что еще говорят в таких случаях четырехлетнему ребенку?
Ее душа разрывалась на части: она искала веры, и одновременно ей требовались доказательства. В поисках доказательств она закапывалась в старые архивы и никак не могла поймать для себя ту самую ускользающую нить, потянув однажды за которую, ей могло бы открыться целое царство: неожиданное и предугаданное одновременно. Вдруг однажды ей показалось, что она такую ниточку - пусть пока еще очень тонкую и призрачную - поймала. Перебирая материалы уже отшумевших старых дискуссий, она наткнулась на тогда еще заочный сетевой диалог между двумя подругами. Тогда еще, собственно, не подруги - едва замаячившие на Веркином горизонте сетевые знакомые - они могли бы и не стать для нее чем-то большим, если бы не та щемящая нежность, которую она испытала в самом начале - юная Татьяна, взрослая Надежда… Так она могла бы думать о потерянных и вновь обретенных сестрах… Собственно, Татьянка и затеяла разговор, в свою очередь докапываясь до деталей, ускользающих из ее второй (или, наоборот, первой?) памяти. В тот раз сама Вера лишь добросовестно исполняла привычные обязанности литагента, пересылая письма, по возможности смягчая взаимные резкости, - и затем, вечерами, усталая и отупевшая, бесстрастно компоновала весь длинный разговор в единый файл. Чужая боль и чужая память, переплавившаяся в равнодушные компьютерные строчки. Они были - противницами, они стояли по разные стороны баррикад, разведенные жизнью, судьбой - не этой нынешней, а той, прежней, которая еще неизвестно - то ли была, то ли нет. Разделенные самым великим чувством, которое движет судьбы Вселенных - любовью. Обделенные и одновременно счастливые…
Напряжение рвало бумагу, напряжение выливалось на Доски, - но, вероятно, мало кто, кроме Веры, с такой силой ощущал этот чудовищный, немыслимый парадокс. Они должны были ненавидеть друг друга, - но возникший электрический разряд не породил ненависть. Вера могла бы вздохнуть с облегчением, - но вместо этого она почувствовала себя опустошенной и… неожиданно - обделенной. Это было сродни острому уколу зависти, зависти одновременно обидной и желанной - ей претила роль равнодушного и справедливого арбитра-наблюдателя, стоящего вовне и сверху, и лишь бессильно сочувствующего то одной, то другой стороне. Что проку в ее бесполезной жалости, что толку в ее критике, кого волнуют ее собственные чувства и попытки определиться, - когда она, подобно иным, не может оказаться там и видеть своими собственными глазами? Пусть краем глаза, пусть сбоку, пусть - с немыслимой высоты, с которой и разглядеть-то ничего нельзя. Но - видеть. Или - думать, что видишь. Только один раз - но быть сопричастной. Лишь однажды она увидела во сне это - вдруг привиделось с отчетливейшей ясностью - Дагор Браголлах, огонь, чудовищной волной, немыслимым цветком хлынувший на нагорье Ард-Гален… Багрово-красная пелена туманила взгляд - жаром, горячечным бредом внезапного <;/font> узнавания, - и больше уже ничего нельзя было разглядеть. Просыпаясь, она чувствовала боль от ожогов, - и, натягивая колготки, увидела то, что должна была увидеть - воспаленную ранку на руке: не далее, как вчера вечером перед сном она случайно плеснула на себя кипяток из чайника. Хорошо, что на себя, а не на ребенка, не дай боже… Пролитый кипяток был реальностью, а сон - нет. Ее доказательство в сотый раз повисло в воздухе, оставив после себя лишь острейшее чувство разочарования.
Теперь, перечитывая те старые материалы, Вера вдруг нащупала это - совпадение показалось ей сначала забавным, потом знаменательным предзнаменованием. Она все водила, водила пальцем по строчкам равнодушного компьютерного набора: резко разойдясь при описании возможных мотивировок главных действующих лиц, Татьяна и Надежда в своих репликах неожиданно и совершенно независимо друг от друга абсолютно одинаково, едва ли не дословно описали всю "техническую", внешнюю сторону событий, - время, место, внешний вид противников, оружие… То есть, - лихорадочно размышляла Вера, - все именно то, что они должны были увидеть! - и они совпали… Вот оно, почти абсолютное доказательство, доказательство нематериальное, но неопровержимое! А мотивировки… Скептически настроенная Вера придерживалась на этот счет и вовсе третьей версии, - а при желании могла бы изобрести версию третью, четвертую или пятую, - но ведь в чужую голову не влезешь… Даже в голову любимого человека… Она вздрогнула, заметив, что употребила слово "человек", категорически неуместное в данных обстоятельствах и попыталась исправиться, но то, что у нее в итоге получалось, звучало столь дико, что произнести это вслух у нее бы не повернулся язык. Ну уж нет! Она-то, Вера, нормальна, - в ее мире нет никаких валарОВ и нолдорОВ!
-- Это не доказательство истинности видения, - ехидно и чуть устало осадила ее на следующий же день после столь потрясающего открытия старая институтская подруга - по странному совпадению, тоже Надежда. Верка так и звала своих подруг - Надежда Первая и Надежда Вторая. А еще где-то на горизонте маячила Надежда Третья, - совсем уж древняя школьная приятельница, редко, но все же выныривающая из небытия, остро напоминая Вере на какое-то время о материальности ее нынешнего мира: мира, в котором рыжая Надька работала бухгалтером в "Интуристе", а ее муж Володя владел фирмой, торгующей красной икрой. Вот за икру-то, за отборную красную весовую икорку по сниженным ценам Верка и терпела Надежду, терпела ее долгие, немыслимо занудные, совершенно в нынешнем Веркином состоянии неинтересные разговоры. Терпела - потому, что так надо, потому, что так хотела Верина мама, и потому, что не привыкла разбрасываться людьми, драгоценными крупицами просеявшимися к тридцати годам.
-- Это не доказательство истинности видения, это всего лишь доказательство обычного здравого смысла оппоненток! - заявила Надежда первая. - Покажи мне человека, который в здравом уме может себе представить ту картинку, которая описана в каноническом "Сильме" - ну, там, ростом с гору и с большой кувалдой…
При мысли о большой кувалде Верке сразу же отказало ее скудненькое воображение.
- Нееее…. Не могу я себе этого представить, - честно призналась она. - Ну, не был Профессор специалистом в военном деле…
-- Видишь… здравый смысл и ничего более… а ты - видение, мол.
-- И это ты, истинный квен, говоришь мне? - возмутилась Вера.
-- Мы гнусные СЕ-шники, - усмехнулась Надежда.1)
-- Это вы гнусные СЕ-шники, - грустно протянула Верка, обломанная в приступе своего щенячьего идеализма по самые уши, - а я самая что ни на есть гнусная СК-шница. Ни ОК, ни СЭ… Отвратительная, мерзейшая позиция, позиция промежуточная, позиция ни уму, ни сердцу… Как там это было - "ум ищет божества, а сердце не находит". Вот это я и есть, - можешь с чистой совестью любоваться. Редкостный моральный урод, короче говоря. Сама себе противна.
- Чего же ты хочешь? - Надежда, в отличие от Верки, была спокойна и логична - у нее-то вопросы самоопределения не стояли. Точнее, уже не стояли. - Объективных доказательств существования вторичного мира?
-- Да! - заорала Верка. Вернее, это ей только так показалось, что она заорала - орать она разучилась уже много лет назад, и если порой и огрызалась, то разве что в кругу собственного шумноватого и буйноватого семейства, когда ее уже совершенно доставали. - Да, я хочу доказательств существования вторичного мира!
-- Погоди… а зачем?
-- Затем, что… - Верка замялась, но, наконец, решилась, - затем, что может быть тогда, когда я буду знать это точно, то… вдруг Сергей ко мне вернется. Если я буду верить в то, что он материален, что он здесь, рядом… а не за этим проклятым стеклом-гранью, через которое мне не перешагнуть, даже если порезать руки…
-- А раньше, когда он был здесь, ты в это верила?
Она отвернулась.
-- Наверное… Но, видно, моей веры было недостаточно.
-- Понимаешь, - продолжила она чуть позже, - меня все время не покидает это чувство. Там, за стеклом, - целый мир. И за другим стеклом… и за третьим… сколько стекол - столько граней. А меня там нет. Нет! Я заперта в этой комнате - навсегда. Мое сознание, как улица с односторонним движением, работает только в одну сторону… Сюда - пропускает. Туда - загорается красный свет.
-- А какая же разница?
-- Не знаю… но если рассматривать прошлое нашего собственного мира тоже как вторичный мир… нет, наоборот - вторичный мир как прошлое нашего собственного мира…
Господи, какая же путаница! Когда-нибудь тысячи лет спустя, - размышляла Верка, - на глаза каким-нибудь неведомым мироглядам, затерянным в иных мирах на бескрайних просторах нашей или вовсе иной Вселенной, попадутся материалы по истории нашего собственного мира. Вот уж удивятся они тогда, вот уж пойдут у них споры и диспуты! И одни начнут доказывать, что если в одном тексте было написано о добром дедушке Ленине, а в другом - о величайшем тиране и диктаторе всех времен и народов, то это доказательство существования параллельных миров и отражений. Другие, изучая, к примеру, ту же историю декабристов, вдруг скажут: декабристов и их мир создала, впервые подробно описав, профессор Нечкина, - и любой, кто будет противоречить хоть в чем-нибудь ее текстам, тот напишет по определению ересь и извращение. А древних славян придумал не иначе как Академик Рыбаков. А третьи, подняв палец вверх, заметят с умным видом: - нет, господа, раз уж мы не можем получить материальное, вещественное доказательство существования земного мира и его реалий, то единственное, что нам остается - это сопоставление источников. И только немногие найдутся среди этих, спорящих - которые вдруг воскликнут - как сполох, как озарение: Я! Я был там! Я видел своими глазами! - но, даже если вдруг ему поверят, - и даже если он поверит себе сам, - и его видение неизбежно исказится, проходя через толстое цветное стекло, эту безжалостную перегородку, разделяющую миры и времена, - так, чтобы неповадно было всем желающим…
Надежда-первая полагает, что миры разные, в ее сознании они не накладываются один на другой. Надежда-вторая и Татьянка - и Верка вслед за ними, - полагает Арду единым миром. Но где доказательства? Где-черт-возьми-доказательства - той или другой точки зрения? А может, добрый дедушка Ленин и правда жил где-то в другом отражении нашего мира… и добрый отец отечества Николай Первый Павлович Романов - тоже. В другом отражении-то, может, и казни не было, - и Сергей жив до сих пор… вот только Сергей ли это? Узнает ли его Верка, если к ней вдруг придет другой Сергей? Доказательства - его память, но что такое память, как не субъективная вера помнящего?
Вот если бы Надежда и Татьяна не просто вспомнили себя в том мире, а еще и встретились бы там - за гранью… это было бы, это могло бы быть тем самым пресловутым доказательством… но если бы это произошло - как бы они поступили? Хорошо, если бы просто разошлись в разные стороны… а ведь могли бы и схватиться за оружие. А главное: даже встретившись вдруг каким-то чудом там - как они узнают друг друга здесь?
… А ведь, в сущности, все эти разговоры о том, что кто-то кого-то помнит по тому миру, - не более чем поза, самообман… в конце-то концов, все мы живем в своих собственных отражениях.
… Они должны были бы быть врагами, они должны были бы ненавидеть друг друга, - но, юная и зрелая, вместе они выше, чище, мудрее. Здесь, в этом мире, им нечего было делить. Вера должна радоваться этому, - но вместо радости она лишь отчетливо ощущает себя третьей лишней на этой чужой, чудовищной погребальной тризне…
Ее абсолютное доказательство развеялось туманным дымом за толстым стеклом небытия. Прошла уже целая неделя, а Сергей к ней не вернулся… А еще через неделю генеральный директор фирмы "Дориат" Свиньин отдал приказ об увольнении нерадивого сотрудника, не представившего вовремя больничного листа или хотя бы внятной объяснительной записки. Верке же сделали внушение - мол, нечего рекомендовать на работу всяческие подозрительные кадры…
-- Это твой папа, - впервые Верка показывала сыну этот портрет. - Тебя зовут Виктор Сергеевич. Это твой папа, Сергей Иванович. Он… умер… - она проглотила ком в горле, произнося эти слова.
-- Как… умер? - прекрасные голубые глаза Веркиного ребенка сразу же наполнились слезами. - А кто же теперь будет со мной в самолеты играть?
Верка молчала. Уш разрыдался.
-- Подожди, - она осторожно обняла сына, чувствуя трогательное тепло прильнувшего к ней детского тельца, - может быть он еще и воскреснет. Нужно только очень-очень верить… и очень-очень захотеть этого.
-- А полить живой водичкой? - У ребенка хорошая память, он помнит все прочитанные когда-либо ему сказки, хотя сам читать все еще не умеет.
-- Было бы… - вздохнула Вера… - было бы, милый, что поливать… - и осеклась, понимая, что говорит ребенку какие-то совершенно невозможные вещи.
…Мать давно пилила ее, - ребенок растет без отца. И вот:
-- Это твой сын, Сергей… Посмотри, твой… Глаза твои… Разве ты никогда не хотел иметь сына? Я растила его… для тебя… и кормила его сама… все, как ты хотел. Недолго кормила, правда, всего три месяца - но у нас здесь сейчас сложно, жизнь такая нервная… но я старалась. Я столько ночей не спала! Твой сын, Сергей… Тот, которого ты усыновил…
Что должен чувствовать человек, впервые (ой, впервые ли?) попавший в иной мир - и увидевший там своего собственного сына? Да полноте - было ли? В документах ничего нет на эту тему… только вот эти таинственные усыновленные дети - "у одного из них золотушная опухоль на коленке". Письмо к отцу - одно из последних, письмо уже обреченного… Невольно Верка разглядывает ножки собственного сына: коленки, конечно же, разбитые, как и у всякого нормального шпанистого пацаненка в таком возрасте, и обильно залитые зеленкой (ох, и визгу же было!), - но во всех остальных отношениях гладкие и чистые. А вот сзади, под коленкой, зато белело странное, обесцвеченное пятно без всякого пигмента, которое никогда не загорало, - Вера не доверяла врачам и никогда к ним без крайней надобности не обращалась, но все же в глубине души интересовалась происхождением странной метки. "Часто в ту пору дворяне усыновляли своих внебрачных детей…" Исключительный повод для разгула воображения - твой сын, Сергей, твой! Пресловутые штаны Арагорна…
…Почтенный васильковский корчмарь Лейба Барух Смулевич разглагольствовал за винною стойкой. По случаю выходного дня в тесное задымленное помещение набилось немало народу, с восторгом внимавшему чуть картавой, но в целом почти правильной российско-польско-украинской речи все более разговорчивого, польщенного вниманием рассказчика. Корчма гудела, как растревоженный улей - события трехлетней давности не успели еще далеко отодвинуться в воспоминаниях местных обывателей и старожилов. Кружки звенели, публика удовлетворенно крякала, кулаками и обшлагами утирая намокшие усы, целковые щедро сыпались на стойку…
-- И скажу я вам, господа и дамочки мои хорошие, чтоб мне всего дохода своего лишиться! - страшные времена пережил я три года назад. Дело-то было во время муравьевского восстания здесь, в городе, - и перед самым Новым годом. В общем, запасся-то я на праздники, как и положено - полные погреба вина, полные бочонки водки отборной - все для клиента, дай бог ему здоровьичка всякого, ну да вы меня понимаете. Тут вдруг слышу шум - прибегает жена моя, ныне покойница, с базара и кричит, мол, - восставший черниговский полк город захватил, подполковник Муравьев (тоже уже три года, как покойник, - царствие ему небесное, хоть и мятежник, а хороший человек был) на какой-то там молебен всех горожан собирает, теперь берегись, Лейба, - как бы погромы не начались в городе и окрест! Ну, думаю, что делать - то ли открывать торговлю - жалко же дохода такого лишаться предпраздничного, и народ как раз городишко запрудил - видимо-невидимо, одни обыватели в домах своих попрятались со страха, другие наоборот от любопытства носы свои высунули куда надо и не надо, - ну да вы меня понимаете! - то ли наоборот запереться крепко-накрепко, да пересидеть в тепле и в холе… опять же дочки у меня, замуж уже старшим пора, приданое, - да погреба-то мои всегда при мне, лишь бы господь здоровье не отнял… ну так вот - запер я все окна и двери, ничего знать не хочу и слышать не желаю, дочек на улицу не выпускаю, жена покойная дома рыбу с медом готовит - никогда не пробовали? Зря, господа хорошие, пальчики оближешь! Кошерная пища - это вам не просто так, это же наслаждение господне, манна небесная, можно сказать! Вдруг слышу - стук, грохот, ломятся в дверь, не дай вам боже страх такой пережить! Выглядываю - а там как раз восставшие, то есть солдатики их, - ну там десять их человек пришло вначале или двадцать, не припомню уже, - но страху-то, страху я натерпелся, чтоб их черти всяческие на тот свет забрали! "Мы, - говорят они, - за свободу для крестьянского и служилого люда воюем, и против панов всяких, и именем подполковника Муравьева, который нам, говорят, командир и родный отец, требуем выдать водки и вообще пития всякого, чтобы на полк хватило для дневки…" Ну, думаю, какие дела, слова-то какие! "Свобода, - говорю я им, - будет, говорю, вам свобода, когда без штанов все останетесь… и хорошо, если только без штанов, а то и без шкуры, - потому как сквозь строй палками продерут кругов по двадцать эдак на брата, вот ужо поплачете кровавыми слезами". А они мне, представляете, мол, дело наше благое и панов и жидов всяких мы будем грабить… Тут меня, господа хорошие, такая оторопь взяла - думаю, черт с ними, с погребами, черт с нею, с водочкой, то есть, запасенной, лишь бы дочек не тронули, - потому как они уже разогретые, солдатики, то есть, а где ихние офицеры и сам подполковник Муравьев, - пока не видать, - ну, в общем, что я тут так долго вам рассказываю, - пустил я их в погреба, да еще и сам наливать стал, - а что бы вы, интересно, делали на моем месте, когда дочки у вас, да и жена, хоть и злая была, вечная ей память, а все-таки, как ни крути, а законная супруга? А? Вот и я о том же… все выпили! Ну, думаю, что же теперь будет? Потому как они же на ногах уже не держатся, - какая там революция, - а тут еще ихние соратники, чтоб глаза их бесстыжие у них лопнули, как они на дочек моих смотрели! - подошли и тоже водки стали требовать…. В общем, всю ночь они у меня тут колобродили, революционеры эти, не дай вам бог такое за всю свою жизнь пережить. А куда деваться? Деваться-то куда? Наконец нашел я возможность выйти (ох, думаю, пока меня нет, хоть бы дочек не тронули) - и пошел штаб этот самый, то есть подполковника Муравьева искать - пусть, мол, защитит и меня, и дочек моих, да хоть бы в погребах-то что оставили, потому как праздники ведь идут! Праздники, понимаете ли! Ну я ему пряников медовых на стол, - не побрезгуйте мол, господин подполковник, как вы есть русский офицер и благородный господин, нашей кошерной пищей, ведь жена моя собственноручно испекла, - хоть и болтлива она у меня не в меру, но пряники печет так, что язык собственный проглотить можно от такого счастия! - и прошу, мол, так и эдак, защитите преданного своего слугу, потому как предан я делу революции всяко и служить верой и правдой готов, дочек только жалко… да и водочку припасенную, хотя черт с ней, с водочкой, пусть пьют, - лишь бы корчму не разнесли мне, потому как опять-таки дочки у меня и приданое для них… Ну, знаете ли, подполковник Муравьев - хоть и русский, а все же благородный человек был, потому как он меня понял и говорит мне: мол, благодарствую я тебе, Лейба, за твою помощь делу русской революции и дам я тебе защиту, чтоб никто тебя и твоих дочек обидеть не посмел, а мы все равно завтра в поход отправляемся отсюда - так что недолго тебе терпеть осталось… В общем, так приятно, знаете ли, с умным человеком поговорить, и так мне хорошо на душе сделалось - так бы всю водку восставшим и отдал, да пусть хоть обопьются! Ну, поставил он к дверям корчмы - вот этой вот самой корчмы, чтобы мне век больше дохода не видать, - двоих часовых, - мол, стерегите и берегите, чтобы никаких тебе погромов и никакого утеснения, потому как Лейба - он не просто так, он ого-го Лейба, то есть союзник наш, хоть и жидовская морда, и сами у него водку пейте, а другим всяким прочим - ни-ни! Так я это и понял, и, скажу я вам по секрету, целые сутки они меня охраняли и дочек моих… Как уж они от меня утром уходили - не скажу я вам, на ногах вроде стояли… ну или почти стояли, чтобы не соврать, вот только гляжу я утром - ружья они заряжают как-то странно - то есть вроде бы задом наперед. И еще зачем-то сальные свечки вместо патронов туда пихали, - вот чтобы мне умереть на этом месте, если слово неправды скажу! - так что думаю, ну, вояки, вы еще повоюете долго таким-то образом. Ну, я скорее дочек своих проведать, - смотрю, живехоньки и здоровехоньки, благословение божие на них, - и затем погреба свои смотреть побежал: пусто! Пусто, господа мои хорошие, говорю я вам, все выпили, все, что на праздники, и на послепраздников, и едва ли не на полгода вперед припасено было, - вот, думаю, чтоб вас самих бог так разорил, как вы меня разорили, ни стыда, ни совести, чтоб вам бабы за всю жизнь больше не видать! А двоих часовых они, горе-революционеры эти то есть, забыли снять, - так и ушли без них, а те еще сутки валялись у меня, пьяненькие, потому уже вытолкал я их, ну, налил еще из запасного погребка, как водится, на дорожку, потому как дочки у меня… ну да вы понимаете… Потом еще трое или четверо суток все трясся от страха - а уж убытку-то… Ну а как потом узнал я, что возле Ковалевки восставших расстреляли, а подполковника Муравьева - царствие ему небесное, умный человек был! - связали и в столицу раненого повезли, - тут-то я и обрадовался и спать спокойно стал, потому как от всех этих революций торговому человеку одно беспокойство, доложу я вам по справедливости…
… Плавно лилась речь хозяина за стойкой. Смеялись слушатели, шумели, аплодировали, выкрикивали слова то негодования, то одобрения, втихомолку ругали жидов, заказывали еще по кружечке, да по рюмочке, да и еще по новой. Среди посетителей, внимательно прислушивавшихся к речам кабатчика, был один, к которому почтенный витийствующий Лейба, не прерывая своей речи, присматривался все внимательнее и внимательнее, - и вид его - не нравился, ох, не нравился хозяину питейного заведения. И немудрено: у человека, молча в одиночку сидевшего за стойкой, опустив голову на руки и едва ли притронувшемуся к своей кружке, был вид вышедшего из преисподней. Лейба не мог бы сказать точно, за счет чего создавалось такое ощущение - посетитель был вполне прилично, чисто, хотя и просто одет - судя по костюму, его можно было бы принять скорее за зажиточного мастерового, но от наметанных глаз Лейбы не укрылась офицерская выправка и осанка. Отставной? Странно и не похоже. Дезертир? Еще более странно. И руки, - тонкие, узкие в кости, обветренные, но все еще сохраняющие следы былого ухода: руки скорее барина, вряд ли мастерового.
Очевидно, никто не смог бы сказать точно, сколько посетителю лет - он производил впечатление молодого еще человека, вдруг постаревшего за один день. Порой падавший луч света освещал глубокие морщины на лбу, в углах глаз, - лицо старика, поникшего под тяжестью не только лет, но и нелегкой жизни, - и вдруг что-то мелькало - живой ли твердый взгляд или какое-то особенное движение, - и становилось ясно, что ему едва за тридцать. Резко очерченные углы губ порой кривились в горестной гримасе… Длинные чуть вьющиеся волосы неопределенно-коричневого оттенка перемешивались широкими седыми прядями, и вдруг - неопределенным поворотом головы - всплеск, сполох темного золота, золотисто-каштановые завитки - как будто воспоминание о какой-то иной, прошедшей жизни. Высокий лоб был наполовину прикрыт длинной челкой, но глазастый Лейба разглядел кривой длинный шрам, косо пересекавший висок.
Застывшие ледяным холодом, тусклые темно-серые глаза - взгляд, поймав который, можно было испугаться сразу же, взгляд живого мертвеца. Незнакомец поднял голову, пристально посмотрел на Лейбу - тот отшатнулся: серый, тусклый взгляд неожиданно вспыхнул небесной синью, отразив отблеск свечи на столе.
- Складно ты говоришь, складно рассказываешь, Лейба, - не проговорил - словно бы пропел незнакомец, и чуть усмехнулся, скривив красиво очерченные губы, - и корчмарь отшатнулся, в ужасе зажимая себе ладонью рот. Синие глаза… голос певучий - не спутать никогда в жизни… золотые волосы… где были твои глаза, Лейба, где были твои старые глупые бараньи глаза, где была твоя пустая чугунная голова (тут Лейба не удержался и постучал себя кулаком по лысоватой, прикрытой ермолкой голове), что ты не опознал этого человека раньше? О, майн гот, почему не вразумил ты своего усердного слугу, своего верного Лейбу Баруха сразу? Упаси господь, чтоб мне корчмы лишиться, и дохода всего моего, чтоб мне по миру пойти, чтобы мне дочек своих никогда замужем не видать (ох, не сглазить бы) - если я все-таки ошибаюсь! Да, но как же это… - тут Лейба широко раскрыл не только глаза, но и рот, - как же это… видно, я совсем сошел с ума, если покойники разгуливают по моей корчме… по моей драгоценной корчме - любо поглядеть… боже, за что наказание такое, чтоб мне лопнуть!
- Как же так, Сергей Иванович, - подойдя вплотную к незнакомцу, хриплым шепотом произнес совершенно ошалевший Лейба, глядя тому в глаза. - Как же так, дорогой господин хороший… это прямо из петельки - да к нам обратно в ридний Васильков? Слыхали ведь мы, про казнь правительственную слыхали - чтоб сдохнуть этому правительству, тсс-ссс, чтоб господь вшей на их головы послал, - и до нашей глуши вести доходят. Ах, три года уж тому как прошло - а мы и не заметили…да, годы, годы… жена моя померла - да будет благословенна память ее навеки, - ох и вредна, зараза была! - Помните ее? Эх, Сергей Иванович… золотой наш…
Еще никто ничего не расслышал и не понял - но взволнованный гул уже взметнулся в тесноватом помещении. Изрядно подвыпившый за свои целковые местечковый плебс тянул шеи, предвкушая крупнейшую за последнее время сенсацию.
Незнакомец же не говорил ничего, словно и не слышал слов почтенного Лейбы, словно бы происходящее к нему и вовсе не относилось: лишь чуть прикрыл лицо тонкой рукой… Рука барина - не мастерового…
… Шушуканье, напряженные шепотки кругом, - и вдруг всю эту разноголосицу прорезал короткий пронзительный женский крик: выбежала откуда-то из заднего, жилого помещения старшая дочь Лейбы-корчмаря - красавица с длинными темными косами, сероглазая Ревекка, словно бы сошедшая со страниц Ветхого Завета. Она еще вскрикнула - уже тише, - и остановилась прямо против незнакомца… стояла и смотрела на него, и ее чудесные широко распахнутые глаза, осененные густым черным дождем ресниц, медленно наполнялись слезами, которые она тщетно пыталась удерживать… Так молча стояла Ревекка Смулевич несколько минут, а потом резко повернулась и пошла прочь.
-- Обозналась видать дочка-то… - все тем же хриплым шепотом проговорил Лейба, все так же не сводя глаз с сидящего странного посетителя. - Жалко… с тех пор, как ребенка родила неизвестно от кого, с головой у нее стало совсем плохо… позор на мои старые седины, но не выгоню же я родную дочку… их у меня четверо - и всех надо кормить и одевать, и замуж выдать - не дай вам боже такую болячку на голову… ну да вы, господин хороший, вы-то меня понимаете…
Посетитель, так странно заподозренный в воскрешении из мертвых, отнял наконец руку от лица, и вновь синева вспыхнула в его глазах. Темноволосая девушка в длинном темном платье, в платке, накинутом на плечи и перекрещенном на груди, вернулась и опять встала перед ним, - только теперь за руку она держала ребенка: мальчонку лет четырех с внешностью воистине ангельской, но никак не походившего на сынов Авраамовых - светло-золотистая головка ярко выделялась в задымленном полумраке.
-- Твой сын, Сергей, - очень четко и очень тихо сказала Ревекка Смулевич. И снова, и снова повторила, едва шевеля губами: - Твой сын…
А затем развернулась, и снова собралась идти прочь, волоча ребенка за собой.
-- Подожди… - вслед ей сказал тот, кого вот уже дважды назвали Сергеем. - Подожди, Ревекка… я знал… усыновить хотел… не успел… отец уехал за границу… я просил… позаботиться…
Она слушала внимательно, как-то очень сосредоточенно, "внутри себя" - так прислушивается женщина на сносях к движениям своего еще не рожденного ребенка. Нет, она не была похожа на сумасшедшую, - и мальчик при ней был чист и ухожен, в хорошей новой ситцевой рубашонке, с кармашками даже, в башмачках кожаных, - но когда она вновь заговорила, ее отрывочные слова звучали бредом, галлюцинацией:
-- Сергей… ты… покойник… ты давно мертв… расплата… нет тебе захоронения… это твой сын… а я - вдова.
Кругом зашушукались еще сильнее - происходящее давно уже вышло за рамки обыденного происшествия. Заплакал ребенок, цепляясь за длинное платье матери.
-- Что же… твоя правда, Ревекка… я был казнен три года назад на кронверке Петропавловской крепости в Петербурге по приговору Верховного уголовного суда…
Вероятно, ей следовало бы убиваться: но она не убивалась. Лицо библейской красавицы осталось совершенно неподвижным в своем замкнутом гордом спокойствии. Что-то блеснуло в ее вскинутой вверх руке - кто-то еще успел вскрикнуть, но ничего особенно страшного не произошло. Одно краткое неуловимое движение - ножницы! - и на пол толстыми змеями упали, свиваясь кольцами, длинные черные косы.</font>
Круг распался. Наваждение обернулось тяжким и странным сном, из которого не было выхода. Летняя корчма обернулась заснеженным полем, на котором вдруг выросли ядовитые красные цветы… пятна красной крови… черные маки…Девушка уходила вдаль, ввысь, в небо, сливавшееся за горизонтом, девушка уходила за грань, бесшумно ступая по призрачному снегу невесомыми босыми ногами - и там, где она прошла, за ней тянулся длинный багряный след - точно знак пути…
А он-то, Сергей, надеялся избавиться от своего прошлого и начать здесь, никем не узнанный, новую жизнь, - но безжалостные воспоминания снова и снова возвращали его назад, в который раз напоминая ему, что легкого искупления для него не будет. Мысленно он опять переносился в ту страшную осень 1825 года, когда он жил нескончаемым, ежедневным ожиданием. Именно тогда ему впервые пригрезился этот сон, надолго ставший его кошмаром, дьявольским наваждением, от которого не избавляли ни долгие молитвы, ни прописываемые добрейшим полковым лекарем снадобья от нервов и бессонницы. Сон был длинный и странный - ему снился красный цветок...
... В разгар лета Сергей возвращался, кажется, с охоты, остановившись передохнуть на большом поле, затерявшимся где-то между окрестными деревнями Трилесами и Ковалевкой. Почему-то он был совершенно один, - без слуг, без денщика, без каких-либо приятелей. И без собаки, что было совсем уж странно.
Забвение снисходило на него, как знак, рожденный свыше, одиночество рождало странные фантазии, - это же поле виделось ему почему-то уже зимой, затканное толстым слоем белого снега, и на этой сияющей белизне темнели повсюду неровные, как кляксы, бордовые пятна. Ему показалось, что это кровь, и он, холодея от непонятного предчувствия, подошел ближе, чтобы разглядеть пятно: но это был всего лишь застиранный дешевый ситцевый платок, - из тех, что носят деревенские бабы, - на нем даже можно было разглядеть полустершиеся узоры, - мелкие красные цветочки на лиловом фоне, сливаясь, рождали иллюзию цвета засохшей крови. Он облегченно вздохнул и двинулся дальше, подбирая эти линялые тряпки на своем пути и небрежно пропуская их между пальцами. Почему-то ему не показалось странным, что платков было так много, - вряд ли их могла обронить одна женщина, - он поднял уже штук десять, а впереди него багрово-лиловым пламенем вспыхивали все новые и новые пятна. Наконец, он подошел к тому пятну, которое издали казалось больше и ярче других. И замер в двух шагах, дивясь на такое чудо. Это был не платок.
Посреди заснеженного поля вырос ослепительный багрово-красный цветок, - даже не один цветок, а целый цветущий куст, лишенный, однако, какой бы то ни было зелени: ни листьев, ни бутонов, только шевелящиеся на ветру, как живые, огромные лепестки, выраставшие прямо из темных узловатых стеблей. Он увидел, что ветер сорвал один из лепестков, и понес на другой край поля, и там, где лепесток упал, появилось такое же багровое пятно. Платки, которые он подбирал на снегу, были засохшими лепестками диковинного растения, и деревенского узора на них больше не было, - только цвет крови. Он отпрянул в ужасе назад, и брезгливо стал отряхивать с руки налипшие лепестки, и они тягучей красной краской медленно стекли с его пальцев в снег. Его стошнило, он упал лицом в снег, хватая прохладную долгожданную влагу губами, стараясь избавиться от наваждения, и, когда очнулся, то с облегчением увидел, что снова находится посреди цветущего лета, и зной приятно обволакивал заснувшего путника. <
Но, когда он вновь поднялся на ноги, собираясь ехать домой, то в ужасе увидел красный цветок на том же самом месте, где он рос зимой. Он еще вырос и налился какой-то зловещей силой. А на том месте, где кровь стекала с рук Сергея, расцвел новый куст.
Нужно выкопать это немедленно, пока никто больше не наткнулся на этот кошмар, - мелькнуло в голове у Сергея, и он, вооружившись штыком, стал судорожно вскапывать твердую, как камень, землю, пытаясь добраться до корней возросшего чудовища, уходивших в самое сердце земли, и уничтожить его. Он копал долго и рьяно, он натер себе мозоли, но цветок словно издевался над ним и не уходил.
Сергей остановился передохнуть, вытирая пот со лба. Пот тоже был красный и стекал красными жирными каплями. Теперь перед ним была вскопанная им своими руками открытая могила, и в глубине ее белели человеческие кости. Красный цветок рос на костях. "Собственно, этого и следовало ожидать", - пробормотал Сергей, тупо шаря рукой в бездонной яме. Он нащупал почти целый череп, - он был прострелен у виска, - и брезгливо морщась, отбросил его в сторону. Второй череп был раздроблен и сильно поврежден. Этой находкой Сергей заинтересовался больше, и долго, стоя на коленях у края могилы, молился за судьбу неизвестного ему покойника. Почему-то это казалось ему особенно важным. Затем поочередно вытащил из раскопа: медную матросскую пуговицу, комок засохшей извести, серебряный крестик на цепочке, - почему-то лютеранский, - и кусок толстой, расползшейся от старости веревки с растрепанным концом.
Он понимал, что все эти предметы должны, очевидно, иметь какое-то скрытое значение, но смысл ускользал от него. Он взял себе серебряный крестик и на его место положил свой, православный, забрал и обрывок веревки, а остальные находки вывалил обратно в яму и быстро закопал все, торопясь закончить работу, поскольку уже темнело. Но, когда он бросил последний ком земли, закрывший отверстие, красный цветок по-прежнему стоял на своем месте, распространяя вокруг себя удушливый аромат, только часть лепестков его снова осыпалась.
Сергей бросился прочь, нашел свою лошадь, все это время спокойно пасшуюся там, где он ее оставил, вскочил на нее, и, подгоняя, поскакал по направлению к Трилесам. Деревня была безлюдна, и он почему-то подумал, что она сожжена. Такие затаившиеся, затихшие деревни он видел во время войны. Не доезжая до околицы, он вдруг свернул в сторону чернеющего леса.
И вот там, на краю поля, на возвышении, он вдруг увидел виселицу. В наступающих сумерках она вырисовывалась очень отчетливо, и на ней болталось пять мертвых тел с посиневшими лицами и вывалившимися длинными языками. Он не хотел смотреть на них, но все-таки смотрел, проезжая мимо, и ему казалось, что трое из пяти мертвецов были ему знакомы. И, когда он подъехал совсем уже близко, то вдруг понял, что тот, кто в центре, - это он сам. Поводья выпали у него из рук...
Конечно, ошибки быть не могло, - он был жив, и в то же время он был мертв, и висел на этой виселице с уже выклеванными глазами, и на шее у мертвеца висел лютеранский крестик, - тот самый, который он подобрал в могиле. Он вывернул карманы, проверяя на месте ли его находки: крестик был на месте, и кусок веревки был на месте, и он невольно приложил веревку к шее, ощущая ее упругую шершавость. Петля легко затянулась, и он слился душой и телом с тем, который висел на возвышении, - без глаз и с вывалившимся языком. Но веревка была гнилая и неожиданно лопнула, прежде чем он успел окончательно отойти в небытие. Он долго не мог отдышаться, а когда, наконец, открыл глаза, виселица исчезла, и вокруг было уже совсем темно. Где-то вдали перекликались голоса, жалобные и печальные. Лопнувшая веревка и крестик по-прежнему лежали у него в ладони.
Он опустил руку, ожидая, что они упадут сами, и они стекли по его пальцам жирными красными каплями, и на том месте, где падали капли, вырос кровавый цветок...
Сергей просыпался в холодном поту и первым делом осматривал свои руки. Они были липкие и потные, и он торопливо мыл их, опасаясь, что с его пальцев потекут красные капли. Сон преследовал его в течение всей осени и начала зимы то почти каждую ночь, то вдруг прекращаясь на неделю, чтобы потом неожиданно привидеться снова с ужасающей отчетливостью, так что он в конце концов почти перестал спать. Наяву кошмар никогда не возобновлялся, но, зато, стоило молодому здоровому организму все-таки потребовать своего, как красный цветок вновь вырастал перед ним, смущая душу зловещим и трагическим предчувствием, о котором он не мог даже никому рассказать. Временами он совершенно отчетливо чувствовал, что близок к безумию, рожденному его собственным мессианским желанием.
Предчувствие рождало знание, - это именно он взрастил ядовитый красный цветок.
Именно тогда он почувствовал, что способен отречься и сделать ход назад, однако странная безумная логика событий той осени толкала его не назад, а вперед, и красный цветок был словно сигналом перед его глазами.
Предсказание скорого конца само по себе не пугало его, - страшило то, что он может не успеть и не познать свой высший взлет, тот самый внезапно озаренный конец, после которого останется только оплакать его как Пророка, а не как простого человека. А Пророки, как известно, бессмертны.
Красный цветок был сном ожидания, сном выбора, а вовсе не вещим сном. Последний раз он привиделся Сергею перед отъездом в Житомир, 24 декабря, а затем исчез бесследно, поскольку ожидание сбылось. Ни в дни восстания или сразу после него, в Белой Церкви, ни в Алексеевском равелине, ни в смутные забывшиеся дни потом он не появлялся больше, и Сергей забыл о нем, как забывают взрослые люди о своих детских навязчивых страхах. Он пережил это, и его реальный жизненный выбор оказался страшнее сна.
Тем удивительнее казалось то, что в первую же ночь здесь в Василькове Сергею приснился красный цветок и его окружение с той же беспощадной осязаемой четкостью, как и два с половиной года назад. Не было только виселицы.
Но теперь действие происходило не в окрестностях Василькова, а где-то в странной незнакомой пустынной местности, на выжженном скалистом нагорье, где в воздухе стояли удушливые запахи гари, боли и страха. Казалось, что это преддверие самого ада. Он должен был бы удивиться, - но почему-то не удивлялся.
Чудовищное пелелище не так тревожило его, как маленький серебряный лютеранский крестик, оброненный им где-то во все еще дымящихся расселинах. Он искал, переворачивая камни под ногами, - и вдруг наткнулся на давно позабытый красный цветок. Он рос там, окруженный какими-то чудом выросшими на выжженной до самой скальной породе земле чахлыми кривыми растениями, но там, где падали, съеживаясь, его багряные, словно бы дымящиеся лепестки, и эта жалкая жизнь умирала. Ему показалось, что он увидел свой крестик, глубоко вдавленный в землю под раскинувшимися корнями цветка смерти, и стал копать там, но крестик уходил все глубже и глубже, и вот уже снова стоял он над вырытой ямой, и в глубине тускло светился его крестик, белели человеческие кости, и лежали рядком, словно дожидаясь его, верные трофеи: кусок веревки, медная пуговица и слежавшийся комок извести... Он хотел достать крестик, но неожиданно обрезал руку о торчащий острый корень. Медленно и веско потекли горячие красные капли с пальцев Сергея, и он смотрел, как уходит кровь в землю...
Сон повторился еще две ночи подряд, и Сергею стало страшно. Но он не хотел признаться сам себе, как был напуган этим новым предостережением. Цветок был реален. Сергей наяву мог бы повторить каждый изгиб ветки, рисунок каждого лепестка, наклон чашки, наливавшейся ядовитым соком живой человеческой крови. Ему внезапно пришло в голову, что так могло бы выглядеть вполне земное растение, прорастающее в каких-нибудь далеких тропиках, - но, перебирая в памяти прочитанные им когда-либо в молодости описания различных путешествий и прилагавшиеся к этим описаниям яркие рисунки, он при всем желании не смог вспомнить ничего подобного.
На третью ночь ему захотелось пойти дальше, хотя удушливая гарь забивала легкие, мешая дышать. Петляя в узком проходе между сурово замершими скалами, он прошел в направлении, предположительно ведущем на Север, и шел так долго, пока усталость не свалила его окончательно с ног. Только тогда он смог оглядеться. Здесь, далеко на Севере, пожарище закончилось, и его взору предстала долина, тоже поражавшая воображение: широкое поле, насколько хватало глаз, было покрыто гигантскими черными маками - уродливыми и прекрасными одновременно. Страшная тишина стояла здесь… Сергей рискнул подойти ближе - ему хотелось разглядеть еще и эти цветы, но они казались не похожи на тот красный цветок, который он видел раньше. Среди цветов медленно шла девушка в темном платье…
Записала Р.Д.
- Ревекка, - позвал Сергей. – Ревекка! Что ты здесь делаешь?
Но, когда она подошла чуть ближе, он увидел, что это не Ревекка. Она покачала головой:
- Меня здесь нет… Я умерла…
Ее лицо, едва различимо белевшее бледно-серебристой маской в странном тумане, казалось ему
одновременно смутно знакомым и в то же время неузнаваемым.
- Я скажу тебе, как называется это место… - она шепнула что-то, но голос был не слышен,
словно пустая ватная тишина поглощала его. С потемневшего неба вдруг начал идти снег – черные цветы
корчились под снегом и исчезали, но местами вдруг сквозь снег проступали багрово-алые пятна – словно
краска смывалась с черных лепестков. Девушка еще раз шепнула ему название места, но как будто бы уже
другое:
- Три… ле… - он расслышал это или это подсказало ему воображение?
Трилесы? Это Трилесы? Вдалеке смутно темнели под снегом какие-то деревянные строения. Странная
девушка исчезла. Он побрел дальше наугад – через заснеженное поле, превращавшееся в кровавое месиво – и
вернулся на выжженное нагорье. Девушка стояла там и в руке держала сорванный красный цветок, медленно
стекавший тягуче-кровавыми каплями по ее руке.
- Ревекка… - только и смог выговорить он. Она обняла его руками, неожиданно горячими и
прижала к себе, точно малого ребенка.
- Пойдем… пойдем со мной… ты заблудился… я уведу тебя в другой мир…
- Но я хочу обратно в Васильков… Я… не доделал… не прощен.
- Ты уже ничего не можешь хотеть… ты умер… умер, казнен…
- А это место… Трилесы?
Свистящим еле уловимым шепотом:
- Ард… Ард-Гален…
Он так устал, что совсем не удивился незнакомому названию.
«Моя вина… вся эта кровь падет на мою голову…», – и очнулся в камере № 8 Алексеевского равелина
Петропавловской крепости. Календарь безжалостно показывал 12 июля 1826 года… Рука торопливо потянулась
к дневнику и вдруг замерла в пространстве…
«Одно только намерение составляет виновность. Действия, как действия, ничего не доказывают,
потому что можно принести много зла с добрыми намерениями и сделать много добра с самыми
превратными намерениями…»
(Из Анналов Петропавловской крепости – Home, Том четвертый, примечания. Неканоническая версия, стилизованная под
дневниковые записи некоего С.Муравьева-Апостола, записанные им незадолго до казни. Перевод В.Богич)
… В местечке Васильков проснулась дочка шинкаря, сероглазая дщерь Израилева Ревекка Смулевич – ее
разбудило хныканье ребенка, спавшего рядом. Протянула руку и коснулась, успокаивая, головки собственного
сына, едва золотившейся в темноте. "Милый, теплый, сладкий…" – захлебнулась собственной материнской
нежностью, столь же глупой, сколь и очевидной.
Затем машинально провела рукой по собственным стриженым волосам – всего две недели, как из
парикмахерской, да еще и ухитрилась понтов ради выкрасить голову в два цвета. Конечно, нет предела
совершенству – можно и в четыре, были бы деньги… Вон, знаменитая "Мысин-студио" через дорогу –
авторская прическа, цена от пяти тысяч… Не рискнуть ли однажды? Вот только зачем…
Утихший ребенок теснее прильнул к ней, обнимая под одеялом, - однако она не без некоторого сожаления
высвободила руки. Пора было вставать. В зеркале на Ревекку смотрела невыспавшаяся взрослая женщина
Верка Богич – менеджер коммерческой фирмы "Дориат", отчаянно не желавшая собираться на работу. Верка
некрасиво зевнула и ругнулась в пространство. "Убью Надьку! Приснится же такой бред!" – но что-то, какое-то
глубоко затаившееся предчувствие, осознание себя-другой мешало ей считать увиденное просто сном.
… Старые косы, отрезанные еще в подростковом возрасте, так и лежали у нее в пронафталиненных недрах
шкафа на родительской квартире. Уже пятнадцать лет она собиралась сделать из своих собственных локонов
подходящий шиньон, но времени доехать до специального цеха никак не хватало, и каждый раз находились
дела поважнее. Еще немножко – и не выдержавшие проверки временем волосы, лишенные живых корней,
просто истлеют, рассыпятся пылью, трухой. Теперь ей уже никогда не отрастить таких кос: до пояса, да и
густые они были когда-то – не то, что те три жалкие крашеные волосины, которые теперь остались у Верки на
голове и подлежали укладке исключительно с помощью полбутылки лака, ежедневно выливаемой на голову.
Забытые косы требовали превращения, полуразвалившийся шкаф, в котором они хранились – замены,
родительская квартира – срочного ремонта, а сама Верка – не менее чем годичного отпуска где-нибудь на
дальних морских берегах, под чаячий крик и неумолчный успокоительный шум прибоя: подальше от
собственных родителей, разбушевавшегося дурака Свиньина и записных фэндомских скандалистов.
Она была – эта Ревекка, местечковая красавица Ревекка, библейская красавица Ревекка, голубица кроткая
и нежная, дева гордая и сильная, - она отождествляла себя с ней, годами перебирая нанизанный на невидимые
нити жемчуг полубессмысленных воспоминаний.
Она не была, никогда не была – Амариэ Прекрасной, Амариэ златоволосой, Амариэ из ваниар, дивного и
вечного народа.
В Ревекку, порожденную ее собственным воображением, Верка верила, а в Амариэ, созданную
воображением Профессора, - нет. Золотистую, белую, бессмертную, безжизненную, - Верка не любила и где-то
в глубинах своей женской души отчаянно ревновала.
То, что документы, оставшиеся от не такого уж скудного (по счастью или по несчастью) девятнадцатого
века, не упоминали ни о какой Ревекке, Верку волновало мало, - да и концы с концами у нее сходились как-то
плохо, неровно. Ее странный мир, мир-в-стекле, мир – хрустальная грань, пересекался под немыслимыми
углами, проходя через сотни отражений. Вот только сама она, Верка Богич, однажды выйдя за пределы и
пройдя через стекло, уже никак не могла попасть обратно. Ее отражения разбегались перед глазами – но она не
видела там, за толстыми окнами, ровно ничего… ничего кроме того, что было написано в известных
(вытверженных наизусть или полузабытых) Верке документах.
А все, что она могла вообразить себе сверху – было лишь неумеренным полетом разгулявшейся фантазии
усталой деловой женщины. Фантазией – но не памятью, не видением, не прожитой там, за гранью иной
судьбой… А раз так – то Сергей уже никогда к ней не вернется. Да полно, полно – а жил ли когда-либо Сергей?
«Молодому человеку Бестужеву-Рюмину было, конечно, простительно взгруснуть о покидаемой жизни.
Он был приговорен к смерти. Он даже заплакал, разговаривая с Сергеем Муравьевым, который со стоицизмом
древнего римлянина уговаривал его не предаваться отчаянию, а встретить смерть с твердостию, не унижая
себя перед толпой, которая будет окружать его, встретить смерть, как мученику за правое дело России,
утомленной деспотизмом, и в последнюю минуту иметь в памяти справедливый приговор потомства!»
(Из апокрифического романа некоего Н.К.Цебрикова, иногда ошибочно ассоциируемого с воспоминаниями так называемых
визионеров)
- Ты меня никогда не любила… - так сказал Сергей Вере в одну из их предыдущих горестных
встреч. Почему-то эти встречи – долгожданные и желанные – никогда и ничем хорошим для нее не
кончались.
- Ты всегда любила этого красавчика – белокурого террориста-динамитчика из "Народной
воли", расстрелянного в Кронштадте…
м- Я вообще специализируюсь на казненных, - сухо парировала тогда же Верка. – На казненных,
трагически погибших, непременно пожертвовавших собой…
Сергей обвинял ее справедливо. Она не могла слишком на долгое время сосредочиться на чем-то – на ком-
то - одном. Постоянно обвиняла себя в неверности – и постоянно изменяла. Впрочем, как можно считать
подобную измену – изменой?
- Представь себе, что я своего мужа любила тоже, - сказала она однажды и пожалела о том, что сказала.
Когда она уходила от Сергея, ей было каждый раз мучительно, гадостно стыдно. Но она все равно уходила
уходила к другому, уходила к ребенку, уходила в работу, – и через несколько лет, на новом витке возвращалась
возрожденной. Вот и теперь – не потому ли и ушел от нее Сергей, что ее дорога опять вывела Верку куда-то не
туда: выжженное нагорье все чаще вставало перед ее глазами вместо заснеженного поля, а златоволосый
высокий нолдо снился чаще, чем Сергей – лишь порой сливаясь в одно, светлое и печальное, лицо.
В конце-то концов – жизнь продолжается, и кто может, кто посмеет всерьез обвинить женщину за то, что
она не будет всю оставшуюся на своем веку женскую долю-долюшку верна одному покойнику? Интересно все
же, а как это происходит у других? Сама-то Вера жила - она была в этом уверена – один только раз – но при
этом странным образом не собиралась отрекаться ни от одного из своих… (она запнулась, подбирая
подходящее слово), - хм-ммм, увлечений. С трудом найденное слово сухо царапнуло какой-то внутренней
несуразностью на языке, - для нее, Веры, это было гораздо больше, чем просто мимолетное увлечение, больше,
чем игра в литературно-исторические парадоксы. Было – жизнью, временем… треснувшим, но не до конца
разбитым стеклом. Было – золотистой головкой ее собственного сына, вернувшегося к ней во плоти. Для нее
это – было… Где, когда, каким словом назвать вторичный мир – ей было все равно. Но - на грани или за
гранью, - верной она не была…
Ведь если даже Надежда-первая: казалась вернейшей, преданнейшей, - и решилась вдруг (Сомнением -
вдруг ли? Исподволь? Знаком новой судьбы?) облачиться в черно-красный плащ, знак великой беды – то
вероятно, ей тоже чего-то не хватало от ее… прежней связи?
Отдачи… нам всем не хватает отдачи… сколь дорого отдала бы любая, чтобы призрачная ниточка – меж
звезд… в тумане…в озарении ночного полубреда - превратилась в живой контакт – и в то же время вряд ли хоть
одна не испугалась бы этого.
… Или так: меняются персонажи и времена – но остается единый типаж.
- Ты любишь святых, а я – ломаных, - сказала Верке Надя-первая, и зарево сожженных в
Лосгаре кораблей мрачным светом полыхало в ее глазах.
Это Сергей-то святой? Ох-ах-эх, слышала бы это сейчас великий историк-канонист, прекрасная госпожа
Киянская! Но ведь когда-то… да, тогда, лет пятнадцать назад, все виделось иначе… "И следовать смело за
Глаголящим во имя Господне…" – куда следовать? Куда… В Ад… Прекрасная дорога оказалась тупиком… и
хорошо, если только тупиком, - но уже потом, потом, гораздо позже, годы спустя она это хорошо понимала.
И… не осуждала. Наверное, потому еще, что никто не смог бы осудить Сергея строже, чем он осудил себя сам.
И вот теперь – Эстель. Слово – как знамение – любви, надежды, веры… "Именем твоим… " Эстель,
обретенная Веркой в тридцать три года – и золотое облако волос, встающих перед глазами… "Ты любишь
святых…"
Наверное, это тоже свойство женской психики – в немыслимом сплетении миров, времен, отражений
выбрать наиболее яркое, заметное, привлекающее внимание. Выбирают "НЕ такое". Выбирают – поступок,
судьбу, крест… Крест, который (вспоминая подслушанную старую реплику) – нести тяжело, а положить –
страшно. Иметь бы статистику: сколько юных прекрасных или не очень прекрасных головок пало жертвой
страсти к батьке Феанору? А вот представить себе девушку, у которой бы всерьез поехала крыша из-за Туора –
хорошего, праведного и правильного Туора, безличного и бесхарактерного Туора – Верка не могла. Наверное,
это только неразборчивая (или, наоборот, слишком уж разборчивая?) Идриль сумела полюбить эту ходячую
воплощенную Идею.
Или вот еще, примерчик перед глазами: замечательная во многих отношениях девица Инна П. во всех
временах, в любых мирах и при любых обстоятельствах ухитряется влюбиться в самую редкостную сволочь,
которая только попадается ей на глаза. И, что особенно характерно – прекрасно знает о том, что любит мразь и
ничуть не обольщается на этот счет. Но при этом… да, при этом совсем уж странно: молоденькая еще,
резковатая и угловатая, порой очень взрослая, а порой совсем подростково-прямолинейная Инночка ухитрилась
написать и рассказать об этой самой сволочи так, что даже Верка, отнюдь нелицеприятно настроенная Верка,
под конец откровенно хлюпала носом в подмосковной электричечке и утирала покрасневшие (хорошо, что
ненакрашенные) глаза рукавом делового пиджачка. Правда, Верка так и не смогла бы сказать определенно, кого
ей было жаль больше – саму Инку или героя Инкиного романа, - но похоже, что обоих. Инку же было жалко до
боли: в один прекрасный момент молодая, горячая и дерзкая (телом и духом) девица развелась со своим тоже
юным и самонадеянным мужем – по причинам непонятным и, вероятно, странным. Инка осталась одна –
наедине со своими невеселыми грезами и своей призрачной ускользающей судьбой…
… Если бы можно было вычислить этот алгоритм… "Эх, если бы знать, где упасть – так соломки бы
подстелить…" Верке бы хотелось посмотреть хоть разочек, хоть краем глаза на женщину, полюбившую где-
нибудь в ином мире или времени никому неизвестного персонажа, какого-нибудь рядового лесного эльфа или
человека из глухой деревни, счастливо вышедшую за него замуж, родившую четверых детей – и прожившую
долгую-долгую, по эльфийским или по человеческим меркам, жизнь, в которой было все – и горе, и радость, но
радости все же больше, и на склоне лет расказывающую о своей тихой, но достойной жизни многочисленным
подрастающим внукам и правнукам… Но почему-то не встречались еще Верке ни разу такие судьбы – или
души немногогочисленных счастливиц просто-напросто не стремились в иные пространства, упокоившись с
миром и почетом там, где им было по штату положено?
… Трагическая, неразделенная любовь, изломанные судьбы, чудовищные жертвы… и не имеет значения,
на чьей стороне ты сражался в том мире, если конец все равно был един. А в этом мире – неважно и подавно.
Для того, чтобы полюбить мужчину, нужно по крайней мере его увидеть. Для того, чтобы девушка квен,
девушка-мирогляд полюбила персонажа NN – она должна по крайней мере узнать о его существовании.
Следовательно… - лихорадочно размышляла Верка, - нет источника информации – нет персонажа. Что
первично: вот ты попала (или думаешь, что попала?) в иной мир – и уже там нашла подходящий объект для
своего пристального внимания? Или все же наоборот – сначала выбор своего и только своего героя – и уже
потом попытка контакта – в целях приближения себя к… избранному объекту? Верке все казалось, что второй
сценарий наиболее реалистичен – но – кто знает? Выбираем ли мы свою собственную судьбу – или это судьба
выбирает нас? Да и какое это, в конце-то концов, имеет значение, когда в любом случае выбор сделан…
Свобода выбора, данная всем Эрухини…
Сергею, когда он ушел от нее, было неполных тридцать лет, - в ее памяти, в памяти местечковой
красавицы Ревекки Смулевич, он навсегда остался молодым, - а ей, Верке, уже тридцать три года, - и с каждым
годом эта разница будет только увеличиваться… Теперь она хорошо понимала трагедию Андрет. И вдруг
осознала то, что знала уже раньше – она не хочет, чтобы Сергей к ней возвращался…
… Игры в квенство и с квенством казались ей чем-то нечистоплотным, отвратительным. Играть в то, что
для немногих других – живая жизнь, кровью струящаяся меж пальцев? Нет, она ничего не имела против тех,
кто сочинял или конструировал себе квенту на игру или просто для того, чтобы не выделяться из окружающей
среды – и даже прекрасно отдавала себе отчет, что, удачно сшив себе по мерке новую биографию, кое-кто и
впрямь начинал потихоньку в это верить. Границы проводились трудно, если проводились вообще: память,
глюк, фантазия, игра, поза, психическое заболевание… Но - не верить в своей собственной душе – и при этом
сознательно обманывать окружающих, в том числе и тех, кто относится к этому не просто серьезно, а -
ненарушимо? Строить из себя ровню, сознательно вытягивая из доверчивых людей самое сокровенное – и при
этом презрительно отзываться о тех, к кому ты стремишься подладиться, как о «ненормальных восторженных
девочках»? Грех, грех великий, несмываемый…
Впервые столкнувшись с таким случаем, Верка не могла поверить, что такие игры возможны, причем
практически безнаказанно: как правило, квен различает своего собрата-квена, визионер – визионера. «Твоя
квенточка слегка жмет тебе в плечиках, и вообще чуть-чуть тесновата… не подправить ли ее? Перешить?
Раскроить? Примерить иной фасончик - не столь трагический, для разнообразия, не столь патетический,
лирический, слишком простой или слишком сложный, - не пожалуете ли? Не пришибить ли героиню чуть
раньше, а героя – чуть позже? Да и вообще – фи, это литература, как можно себя в этой роли воспринимать
всерьез?». И Верка, услышав такие речи, лишь презрительно пожала бы плечами («комплекс неполноценности,
помноженный на манию величия»), если бы… если бы не ощущала в этой странной и не слишком-то
импонирующей ей женщине какое-то пересечение с собственной судьбой. Если бы арена действия была
расположена здесь, в этом мире: да, тогда эта женщина была бы – могла бы быть, - ее, Верки, соперницей. Они
любят, – Верка снова поперхнулась, - одного и того же человека… Тьфу! Никак она не может справиться с этим
лексическим рядом! Вот только… есть разница в понятиях: в данном конкретном случае влюблена (и чувство
натуральное, искреннее, не игровое!) сама Галина В., а не никогда не существовавшая нолдэ Ирианель, - что
же, это Верке понятно и привычно: она и сама такая… или почти такая. Но зачем, зачем в таком случае этот
обман, эти лишние навороты, вводящие людей-нелюдей в заблуждение?
«Я там жила» – фраза не пустая: слишком емкая, и слишком исполненная смысла, чтобы можно было
трактовать ее как-либо по-другому. Когда Надежда-вторая говорит: «Я не ощущаю себя родом из Средиземья, я
просто там родилась», - то Верка точно знает, что так оно и есть. В данном случае, толкование – единственное,
вера – абсолютная. Так не играют, так только живут. И, будь Вера сто раз презренной материалисткой, но она
не желает разрушать эту веру – не желает разрушать хотя бы тень этой веры прежде всего в себе самой. Она,
Вера Богич, - менеджер внешнеторговой фирмы «Дориат», проживающая за кольцом Московской окружной
дороги, - должна быть совершенно уверена в том, что в Москве или в Самаре живут ее подруги, которые
родились в Средиземье, - но она сама там не родилась! И поэтому ей противны игры в «понарошку» и она не
хочет так играть. И не сочиняет себе никаких квент – ни эльфийских, ни каких-то еще. Красивых, трагических,
навороченных – ни-ка-ких. Либо ей будут доверять такой, какая она есть – либо… не будут. Средиземье будет
жить без нее, - но, во всяком случае, никакое даже самое толстое стекло не помешает полету ее фантазии. Пусть
она слепа – но она еще будет видеть… Будет! Не так, не как другие, по своему, - но обязательно будет…
«И да воздастся каждому по вере его…»
- Вы неправильно оформили счет-фактуру, - в который раз тупо повторяла Верка по телефону. –
Новый приказ… вы должны изменить названия налогов в шапке… номера грузовых таможенных
деклараций…
- Господи, какой же дурак (кретин, болван, идиот… - смысловой ряд продолжать можно было до
бесконечности) попался! – вздохнула она, кладя трубку. – Как будто это я виновата в том, что наша
дориатская бухгалтерия – это… - тут она проглотила рвавшееся на языке ласковое определение: ругать
вслух родную бухгалтерию было не принято, война между отделами длилась уже несколько лет – с
переменным успехом, в зависимости от того, кто из учредителей фирмы, как обычно, тянувших в разные
стороны, поддерживал в своих целях которого из начальников отделов, - а отливалась на сотрудниках,
причем именно на «среднем звене»: не на высшем и неподконтрольном начальстве, и не на пешках,
перекладывающих бумажки, а именно на тех великомучениках, у кого ответственности – много и еще
больше, а прав – никаких.
- И вы хотите, чтобы я с такой скидкой что-то у вас покупала? Дайте 10% минимум… лучше
12%… ограниченный бюджет на закупки… только высоколиквидные товары… - Надоевший, изо дня в
день повторяющийся разговор… лучше бы Надежда позвонила! Любая из трех Надежд, или Татьянка, или
еще кто-нибудь. Междугородная халява… Примеряясь к кнопочкам – девятка – выход в город, восьмерка,
код…
- Ну, как там жизнь самарская?
- Отдел закупок и маркетинга фирмы «Дориат». Не молчите в трубку… вам кого? Перезвоните,
вас не слышно! – и вдруг, затаив дыхание…
- Ревекка… я вернулся. Постарайся приехать пораньше домой.
Прежде, чем она успела что-либо понять, в трубке уже звенели короткие гудки.
В новом доме Верка почти никого не знала, - и ее никто не знал. «На ПМЖ» в Москву (по ехидному
выражению одного из своих приятелей) из ближнего Подмосковья Верка переехала совсем недавно. Всего
пятнадцать минут ходьбы пешком – невидимая граница, проходившая через загруженное автомобильное шоссе,
точно граница двух миров: между старым и новым, между захолустьем и цивилизацией, между отживающим
свое социализмом и почти утвердившимся, торжествующим капитализмом, - и долгожданная столичная
прописка у Верки в кармане. Здесь, в московском доме, круглый год была горячая вода, работали лифты и не
отключали по вечерам электричество… Лишних денег у Верки не было: покупая квартиру в соседнем
престижном микрорайоне – лишь бы поближе к родителям, без них, без их помощи не поднять ребенка, - она
поневоле выбрала самый дешевый вариант из всех возможных. Рядом стоял престижный дом для новых
русских, с охраной и улучшенной планировкой, - а у нее в доме селились бюджетники, очередники,
хронические алгоколики и начинающие наркоманы. Часто вечерами в подъезде нечем было дышать – здесь
стоял терпкий аромат табачного дыма, смешанного с едким запахом неведомого Верке зелья, и обкурившиеся
пацанята крутого неформального вида, в заклепках, с зелеными волосами и не менее зелеными лицами,
провожали торопившуюся к лифту Верку пустыми затуманившимися взглядами. В такие минуты она боялась за
своего ребенка – за его настоящее и будущее – в этом городе, в этой стране и в этом мире…
Неблагополучный подъезд напоминал о себе вечно сломанным домофоном, вывороченными с мясом
почтовыми ящиками, покореженными детскими качельками во дворе и неухоженными, полугодными злющими
псами, оставлявшими следы своей жизнедеятельности прямо на лестничной клетке. Верка ходила за
продуктами в дорогой супермаркет через дорогу, - и грязноватая вахтерша на входе в подъезд провожала ее
сумки завистливым недобрым взглядом.
Здесь не сидели, как в старом родительском доме, болтливые наблюдательные бабушки-пенсионерки у
подъезда на скамеечке (здесь вообще не было скамеечек), - уж те бы не преминули заметить и почесать языки о
том, что к незамужней Верке ходит незнакомый мужчина. Свобода от общества и общественного мнения была
одновременно и приятна и чем-то неуловимым раздражала: как будто бы в глубине души Верке хотелось,
чтобы на нее обратили наконец внимание: ведь если околоподъездная бабка своими завидущими глазами видит
живого мужика во плоти – то и Верка может быть уверена в том, что живет не с призраком.
- Мама, я сегодня вечером буду не одна, - кротко сказала Верка, в задумчивости доставая новую
скатерть из шкафа и застилая стол. Мать, вопреки ожиданиям, не обрадовалась.
- Живешь в мире грез… вот уже не в первый раз ты говоришь это – а хоть бы кого увидеть
живьем…
- Ну же, мама… я имею право на свою личную жизнь?
- Имеешь… - проворчала мать. – Если бы у тебя действительно была личная жизнь. Грезы…
миражи… в тридцать три года богемный образ жизни… твои новые друзья ни к чему не неприспособлены!
- Мои друзья все работают! – в очередной раз обидевшись (хотя пора бы уже привыкнуть и не
обижаться) парировала Верка. – И на жизнь себе худо-бедно зарабатывают сами, ни на чьей шее не сидят.
Мать не удовлетворилась ответом. Она желала знать подробности. В сотый раз Верка объяснялась,
оправдывалась – Надька переводчицей, Галина программистом, Инна в фармацевтической компании («А
почему из Академии ушла?» – не преминула поинтересоваться мать. – «А я почем знаю?! Как будто у нас нет
других тем для разговоров…»), парни в основном программистами… мама, уйди к себе домой! Мама, зачем
тебе вся эта информация, зачем тебе знать, кто где работает, с кем спит и сколько получает? За что ты так
унижаешь меня, мама, мамочка, ведь я же тебе не чужая…
- Я работаю и зарабатываю! Вы все живете на одну мою зарплату! – не выдержав, в отчаянии
выкрикнула Верка, - и тут же пожалела о том, что сказала.
- Попрекаешь? Мы сидим с твоим ребенком…
- С вашим внуком, мама… - Верке было стыдно.
- Иди домой, мама. Я все сделаю без тебя.
Мать поджала губы. – Ребенок без присмотра… И зачем только родила его! Лучше бы ты за границу в
аспирантуру учиться поехала!
- Так ребенок или аспирантура? – снова не выдержала Верка. – Ты бы определилась, чего ты от
меня хочешь…
… А новенькая шитая скатерть уже на столе, и рюмки звенят, и ожидание невыносимо… «Ревекка…
дождись… дождись…» - «живешь в мире грез…» – звонок в дверь… Звонок! Неработающий домофон… Верка
стремительно бросилась к двери, обгоняя мать. – Твой сын, Сергей, твой…
За порогом, тупо переминаясь с ноги на ногу, стоял сосед из квартиры напротив – рыбьи, снулые, белесые
глаза, чуть неестественно выпрямившаяся фигура – как-то странно перекатывается на вывернутых носках…
Верка инстинктивно закрыла собой выглянувшего вслед за ней в коридор ребенка.
- Что?… Что надо?… - и - жгучие слезы разочарования, наворачивающиеся против воли на
глаза.
- Шаааамммм… пунь…. Пр….родайте в колпачччч…чок…. Наааа-лей.. ик…теее….
Она зажала рукой рот, подавляя рвотный позыв. Резким движением захлопнула дверь. Но, подумав,
вернулась… если она не нальет, нальют другие… если не шампунь, то разведенный стиральный порошок или
таблетки эффералгана - какая разница? Эти токсикоманы все равно найдут свою долю кайфа… Через
полуприкрытую щеколду она протянула в дверь бутылочку с детским шампунем – первым попавшимся ей под
руку, - но рука ее зависла в воздухе: сосед уже ушел. Медленно вылила содержимое пузырька в раковину – как
будто этот испоганенный, оскверненный шампунь уже не годился для того, чтобы мыть голову ее драгоценного
ребенка, - и брезгливо отерла руки…
Ночью ей приснилась виселица на Кронверкской куртине… обрыв веревки – неясная белая, безглазая
фигура в саване падает, разбиваясь о доски, сразу же окрашивающиеся жирной темной кровью… кровь в
полусне-полуяви пахнет приторно – вишнево-клубничным синтетическим ароматом… Она подходит и окунает
руку в маслянистое, странно пенящееся месиво… Детский шампунь! Трагедия, обернувшаяся чудовищным
фарсом… Голос глухой, точно издалека:
- Вешайте скорее снова!
Капюшон савана откинулся… она смотрит, смотрит… - Сергей! – диким криком, последним усилием
души, отрывающим ее бренное тело от смертной земли… - Вернись ко мне! – и уже шепотом, остывая…
невнятным шорохом замирающего сна-бреда: - Вернись… раскрытый капюшон савана – золотые волосы…
расплавленное жидкое золото – словно лучи утреннего, рассветного солнца. Вот он, рассвет – шесть или семь
утра, Кронверк Петропавловской крепости… Подвал острова Тол-ин-Гаурхот… золото… серебряный венец –
корона об пол, со звоном покатившаяся по ступеням. Огромный волк… шум схватки… кровь на губах – и вкус
детского шампуня, отвратительным синтетическим ароматом расплескавшегося по каменным плитам.
- Вернись!
… «Ты любишь святых…ты… любишь… » Она любит… вот только она, Вера, не свята…
- Фирма «Русь беспохмельная» дешево предлагает отборную красную икру… для своих скидка
еще двадцать процентов…
Надежда-третья показывала рекламки, зябко куталась в модный толстый джемпер – широкий пестрый
ворот, нитки-клубочки, рукава-раструбы…
- Русь… какая?! – Верка поперхнулась.
Надя располнела, раздобрела, как-то заматерела: длительное гормональное лечение не шло ей на пользу.
Вот ведь как жизнь складывается: деньги, квартира, машина, хороший муж при хорошем заработке, - а детей
как не было, так и нет, и от бесконечного хождения по кабинетам врачей нет никакого толку. Одна из самых
процветающих категорий врачей – специалисты по лечению бесплодия: и ответственности практически
никакой – ведь жизненные риски для пациенток минимальны, и никто не даст никаких гарантий. А значит -
можно без конца и края посылать несчастную по замкнутому кругу, вытягивая из нее до бесконечности на
алтарь врачебного благополучия все, что можно: деньги, силы, время, нервы… и опять – деньги, деньги,
деньги… У Надежды-четвертой деньги пока еще были – а вот сил и нервов явно уже не хватало. Она
посматривала на Веркиного сына с плохо скрываемой завистью.
- Денег-то хватает? – озабоченно спросила Надежда.
- Да не жалуемся… - неопределенно ответила Верка. – Не то, чтобы миллионы с неба хватали,
но сыты-одеты, в отпуск ездим и в театр по выходным ходим…
- Ты всегда, еще в школе, была фантазеркой, - ухмыльнулась Надька. – Помнишь, как еще в
классе все над тобой смеялись?
- Мне было все равно, – призналась Верка. – Я просто не обращала внимания.
- Ну да, именно… ты была так поглощена своим миром, что тебе было без разницы… а с твоей-
то головой! Могла бы сейчас не по найму работать, а свое собственное дело иметь…
- А зачем? – возразила Вера. – Ответственность большая, а времени на ребенка еще меньше.
- Зато дала бы ему хорошее образование… куда нынче без образования…
Вера покачала головой. Не то, чтобы ей совсем никогда не хотелось открыть свой собственный бизнес –
почему-то ей грезился небольшой ресторанчик с домашней кухней и таким же домашне-уютным персоналом:
готовить любила и умела. Но стартовых капиталов не было, закладывать под это дело собственную квартиру не
хотелось, да и вообще не хотелось лишней головной боли. Хоть в фирме «Дориат» и правит нынче бал дурак
Свиньин, - зато дурак единственный и неповторимый, нетиражируемый дурак, можно сказать. Слова «сам себе
хозяин», во всяком случае в российском бизнесе были фикцией: одна толпа голодающих чиновников всех
мастей, с официальной зарплатой в полторы тысячи рублей и с аппетитами на три новых мерседеса каждый, с
лихвой перекрывала все красивые и лживые слова о свободе и независимости.
- Неее-еттт… не для меня, во всяком случае. Как-нибудь продержимся.
- А замуж? – деловито спросила Надежда.
- Что-то мне не хочется… - призналась Верка. – Лишнюю обузу себе вешать на шею. Привыкла
уже сама. Да и не вертится ничего достойного тут поблизости.
- А отец… - Надьку прямо-таки распирало любопытство, смешанное с нездоровой завистью –
Вера мысленно пожалела ее. – Отец Витьки-то помогает вам? Или совсем уж никак?
- Помогает… - неохотно протянула она. – А как же, конечно, помогает. Книжки вот ребенку
приносит… - рука ее автоматически потянулась к журнальному столу, перевернула томик.
- Дж.Р.Р.Толкиен,. – прочла Надя. Рыжеватые чуть подкрашенные брови ее чуть взлетели вверх.
– Это детская литература?
- Ага. Фантастика такая детская, знаешь ли… про всяких там эльфов и драконов… красиво!
- А цалица Галадлиэль уплыла в Валинол на селебляном колаблике… - встрял наконец в
разговор ребенок, обиженный тем, что на него вот уже длительное время никто не обращал внимания. –
Надя, а ты почему на гитале не иглаешь? А вот тетя Надежда Ивановна иглает на гитале…
- А это, - металлическим голосом сказала Вера, - тетя Надежда Николаевна. Она продаст нам
банку твоей любимой красной икры. Уш, уйди отсюда… брысь к своим самолетам!
- Что? Что? Кто? – допытывалась Надежда.
- Подружка мои… на гитаре играет… я ведь помню, ты в школе тоже училась играть. Песни
свои пишут…
- О чем песни-то?
- А вот про эту самую… - Верка не хотела быть недоброй – но прозвучало у нее так, что Надя
чуть попятилась, невольно втянула голову в мохнатый ворот, – про эту самую царицу Галадриэль, которая
на серебряном кораблике…
- Ну… ну…
- Короче… Надь, полкило икры я у тебя покупаю. К Новому Году, если доживет. Матери привет
и… заглядывай, в общем, иногда.
Телефонный звонок раздался сразу после Надькиного ухода. Молчание в трубке… холодок, бегущий по
спине… Ревекка с отрезанными косами…Пусто, пусто, пусто…
- Мама! Мамммм… а эльфы вправду были или понарошку?
Она разжала руку, выронив на пол смятую бумажку. Спохватилась, подняла, разгладила – лицо… за
полтора десятка лет ставшее знакомым до мелочей. Нестареющее лицо… таким или очень похожим может
быть ее сын, когда вырастет. Торопливо засунула портрет между листами книги.
- Мам, ну мам же?
- Знаешь что… этого никто точно не знает. Вырастешь – решишь для себя сам, – и торопливо
хлопнула дверью туалета, закрываясь от последующих вопросов собственного не в меру любознательного
сына.
Вспомнилось совсем недавнее – не вовремя, некстати подвернувшая загранкомандировка – в другой
момент бы желанная. Два дня, проведенных в старинном Нюрнберге – и всего три часа чудом вырванного у
начальства и гостеприимных германских бизнес-партнеров свободного времени. Здесь было как-то особенно
тихо и благостно – и не величайший суд, оставивший здесь память новейшей истории – преступлений залитого
кровью двадцатого века, - вспоминался ей сейчас, когда брела она узкими кривыми улочками замкнутого
кольцом средневековых крепостей старого города. Всего три часа – потому что директор ее (к счастью, не
Свиньин, другой – но все равно могучее начальство) мечтал посмотреть систему супермаркетов в Германии – и
тащил ее, Верку, вслед за собой на окраину, в большие стекло-железо-бетонные торговые центры. А ей так
хотелось остаться здесь – на день, на два – почувствовать себя свободной… почувствовать себя – иной…
Кривые переулки-игрушки, летящие ввысь шпили готических соборов, сувенирные лавчонки, заполненные
неведомым антикварным хламом, в котором можно рыться часами: потрескавшаяся керамика, старинные
пожелтевшие нотные тетради, скалящиеся карнавальные маски… Свечи и кружева. И снова переплетение улиц,
спускающихся к реке, и робкий поначалу ветерок, поддувающий полы ее делового пиджака…
А потом она выбрела, вырулила к музейчику – это был музей мечты, музей старинной и не очень
старинной игрушки, - и зашла туда, спасаясь от начинавшего пронизывать ее холода. Тихие залы: игрушки,
пережившие своих хозяев, пережившие десятилетия и века… игрушки, как в фокусе отражающие жизнь и
социальную историю общества: менялись костюмы у кукол, модели велосипедов, кораблей, автомобилей…
Прямо над Веркиной головой ездил по рельсам, свистя, старинный паровозик – она пожалела, что с нею нет
сына. А впрочем, хорошо, что нет, - визгу и топанья ногами хватило бы на весь музейчик: «купи, мамочка,
купи»! А вот, оказывается, специально для таких посетителей, как Уш, предназначена игровая комната – здесь
тоже игрушки, не такие прославленные, как в залах под стеклом, - но красивые, прочные, яркие.
Взгляд ее скользил по витринам: оказывается, первые «паззлы» и другие развивающие игры – вовсе не
изобретение новейшего времени, такие разрезанные картинки и подобия «никитинских кубиков» складывали
детишки еще в девятнадцатом веке. Сокровища двадцатого столетия – развитие техники: первые самолетики в
двадцатых годах, первые игрушечные персональные компьютеры в восьмидесятых. Крошечная розовая
пластиковая мышка на крошечном резиновом коврике… Кукла-программист… Жутковатые раритеты: игрушки
немецких фабрик тридцатых-сороковых годов – солдаты в эсэсовской форме, со свастикой на рукаве, детские
комнаты с портретом фюрера с подъятой в благословляющем жесте рукой... Развитие техники -–и
одновременно возврат к народному примитивизму: в шестидесятых годах расцвели снова пышным цветом
символичные деревянные лошадки и матерчатые клоуны в мягких колпачках и на веревочках, с грубо
размалеванными лицами – тяга к простоте, заменяющей бешено ускоряющийся ритм жизни.
И снова благостная старина: кукольный зал, мечта девочки… да и взрослой женщины тоже. Почему-то
особенно впечатление на Верку произвели не куклы: у старинных кукол были странные, даже какие-то злые
выражения лиц, - а кукольные дома и комнаты, в обилии представленные в боковых витринах. Роскошь
немыслимая: огромные интерьеры из натурального красного дерева (ох, вряд ли и в прошлом веке каждая
мамаша имела возможность покупать такое своему ненаглядному ребенку – сюда, в музей, явно попадают
игрушки самые лучшие… прочные… дорогие… пережившие, вероятно, не одного малолетнего варваренка),
целые лавки – посудная, галантерейная, бакалейная…
Галантерейная лавчонка с крошечными разложенными на полках образцами товаров – микро-шляпками,
кружевами, разноцветными лентами, носовыми платками, булавками и заколками и стоявшей посреди всего
этого дамского великолепия миниатюрной фарфоровой продавщицей с трогательно качающейся головкой, -
особенно потрясла Верку. Она ощутила что-то вроде острого чувства зависти и разочарования, она, даже в
раннем детстве почти не игравшая в куклы, вдруг почувствовала себя обделенной: в дни ее детства такого не
было, она лишилась чего-то очень важного… чего-то очень ей дорогого. Странное чувство нежности по
отношению к этой фарфоровой продавщице в чепчике с ленточками, одиноко стоявшей в витрине, вдруг
затопило ее душу. Ее не вынут детские ручонки, не будут с ней больше играть… Другой, другой мир – стекло,
как невидимая граница, за которую не проникнуть. И ее, Веры, там нет…
Медленно она побрела дальше – и вдруг, вздрогнув, подняла голову, вгляделась… Кукла (уже поздняя,
чуть аляповатая, шестидесятых годов или около того) называлась «Эльф» – золотились в свете искусственных
музейных ламп роскошные кукольные нейлоновые волосы. Рядом тянула ручки к витрине малолетняя немка –
вероятно, ей тоже хотелось такую куклу-златовласку: в своем расшитом средневековом костюмчике сойдет за
прекрасного принца, подходящего жениха для любимой «Барби», недавно купленной любящими родителями в
соседнем супермаркете. Верку неожиданно замутило: ей захотелось на воздух, на солнце… прочь от
игрушечных эльфов, плюшево-золоченых дракончиков и пластиковых пупсов в колясочках.
На старинной городской ратуше часы мерно отсчитывали время. Еще сорок минут – ей нужно купить
ребенку куртку. Зимнюю, теплую, настоящую, не игрушечную куртку, своему настоящему ребенку. Вот
магазинчик детской одежды – она с готовностью нацелила кошелек. Она ошиблась, – это был бутик, а не
супермаркет, и цены здесь были Верке не по карману. Хозяйка крошечного магазинчика обиженно кричала ей
вслед что-то на немецком языке, вытаскивала одно за другим свои сокровища, тряся перед Веркой
трогательными парадными брючками на бретельках и аккуратными, и впрямь напоминающими игрушечные,
комбинезончиками – она еще успела, убегая, подумать, через сколько часов ее буйный ребенок вывозит эту
неуместную одежонку в грязи с ног до головы.
Надо и правда в этот самый… дисконт-центр на окраине… там курточки – прочные, практичные,
недорогие… и купить на вырост, чтобы две-три зимы проходил.
… Вдыхая аромат старинного города, Верка выбиралась к своему отелю – ее время истекло, не дав ей
даже возможности - опомниться, осмыслить себя. Так мало нужно – для счастья, для любви, - и эта малость ей
никак не давалась в руки, ускользая, убегая… дуновением ветра… еле ощутимым дыханием… Рядом с ней шел
мужчина с золотыми - нет, соломенно-желтыми, грязноватого оттенка, - волосами. Она чуть приостановилась,
оглянулась – и, вспомнив витринную куклу, решительно зашагала прочь.
"Ты славить его не проси меня…"
…Крупнейший ролевой фестиваль в Нижнем Новгороде – шум, гам, свалка, полторы тысячи знакомых,
полузнакомых и незнакомых человек. Много песен, красивых костюмов, пива и бардака. Дешевый
гостиничный номер, позднее утро. Недавно познакомившиеся, наконец, живьем, - Надя-вторая и Татьяна,
выпрямившись, неподвижно сидят напротив друг друга.
Верка смотрит искоса – это ее любимые подруги? Точно ли они? Изменившиеся, прерывающиеся - и в то
же время более глубокие, чистые голоса, другие лица. Печать легкого безумия на всем окружающем.
- Расскажи мне…
- Расскажу я тебе…
Вьется, вьется за спиной лазоревый плащ. Дробный перестук копыт – несется на север Рохаллор.
- Танечка, не надо… не вспоминай…
Другие имена… Не Татьяна… Опять, всегда, везде – третья лишняя. Сейчас, сейчас противницы вцепятся друг
другу в волосы… расцарапают сопернице лицо – горят глаза, нарастает напряжение – они там, а она, Верка,
здесь, она не может последовать за ними, и не сможет их вытащить – случись что-нибудь… Он был одним из
нас… он был выше нас, лучше нас, чище нас… Он – был. – Татьяна или та, что говорит сейчас устами Татьяны,
почти выкрикивает последние слова – как обвинение, как приговор - в лицо Надежде, застывшей сейчас
каменным изваянием. – Он не смог бы сделать больше того, что сделал… никто не знал, почему он уехал.
Осталась записка на столе – записка, адресованная Фингону. Сыну, наследнику. Больше никто ее не прочел, и
никто не сообщил нам – почему… Я успела – наверное, сердце мне подсказало, и я следовала за ним – и он не
видел меня… Спряталась за камнем и видела все. Все…
Свидетель. Очевидец. Очевидец рассказывает другому очевидцу. Любознательные исследователи составят
когда-нибудь классификационную табличку различных форм мироглядства – потому что здесь есть логический
сбой: Татьянка там была, а Нади - не было. Но обе – видят. Надя – чужими глазами. Это очень страшно – вот
так, пусть на доли мгновения стать совсем другим, слиться с чужим - причем не просто с чужим, с
нечеловеческим сознанием. И это не имеет ничего общего с раздвоением личности или иной психической
несостоятельностью.
Видение отличается от памяти так, как отличались бы слои археологического раскопа – чем глубже, тем
труднее пробиться через грань, - и тем мучительнее может быть разочарование, когда – вонзившись в самую
глубину – вдруг обнаружишь, что там – пусто… Высохшее русло реки.
Верка физически ощущает это: чужая боль, чужая мука, чужая память. Чужая речь, незнакомый, полупонятный
язык… Сгустившаяся в воздухе, осязаемая взаимная ненависть. Поток крови, застилающий глаза. Невероятная
ирония судьбы, сведшей сегодня в дешевом гостиничном номере двоих: свидетель против свидетеля.
Идеология против идеологии. Отчаяние против отчаяния. Влюбленная женщина – против другой влюбленной
женщины. Потом…
Чуть позже Верке кажется, вспоминается в разгоряченном тумане полета через бесконечное стекло – это было
так:
- Он был еще жив, когда Торондор… Он истекал кровью, но феа его не желала уходить… Потом он умер, и я
– тоже умерла. - И вдруг отчаянным всплеском, полоснувшей по горлу ненавистью: - Это все из-за тебя!
Из-за твоего… - слово недоговорено, но внятно. Тихо вскрикивает, резко поднимая вверх руку в защитном
жесте, Надежда:
- Я… Я не виновата!
Осекается Татьяна, втягивает голову в плечи. Опадает бессильными крыльями лазоревый плащ.
Бесцветный голос:
- Продолжай, что же ты…
- Я пошла в Ангбанд… Я не знала, куда мне еще идти. Я хотела… я хотела убить Мелькора… прости меня.
Еще секунды – прервать… прервать этот кошмар, эту вакханалию глюколовства немедленно. Верке не хватает
воздуха, она чувствует, что падает вслед, что ее затягивает в чудовищную вневременную воронку – вместе с
ними и в то же время отдельно от них, и что полет этот для нее одновременно – желанен и страшен. Сейчас…
вот сейчас она ударится о стекло – и все повторится по новой – застывший миг. Поединок – один на один – и
там не нужен третий свидетель. Описывает мерные круги над долиной Анфауглит Торондор…
Еще миг – и тяжкое наваждение рассеивается. Две женщины, обнявшись, рыдают друг у друга на плече, - но
они уже здесь и сейчас.
- Нолмэ, Нолмэ… - плача, повторяет Татьяна: давно и хорошо знакомая Татьяна, не в лазоревом плаще – в
серо-коричневом свитере со свесившимися кисточками через плечо. Резко поворачивается Надежда, едва
шевелятся губы:
- А я? – слышится Верке. – А меня… а нас… кто оплачет?
"И за гранью мира будешь ты видеть пути судьбы…"
… Тьфу, какая бессовестная сентиментальщина! А на самом деле, вероятно, это было чуть-чуть иначе. Не
совсем так. Или – совсем не так.
- Он был еще жив, когда Торондор… Он истекал кровью, но феа его не желала уходить… Потом он умер, и я
– тоже умерла. – Таня прерывается на секунду, подбирает слова все медленнее, труднее…
Молчит Надежда, сидит неподвижно, с тем же отрешенным выражением замкнутого лица. И в этой
неподвижной тишине Татьяна заканчивает свой рассказ:
- Я пошла в Ангбанд… Я не знала, куда мне еще идти. Я была никому не нужна. Я хотела… хотела убить
Мелькора… прости меня.
Она еще договаривает что-то, постепенно затихая, сбиваясь со средиземских видений на какие-то местные
впечатления, реконструкторские разборки. Еще миг: невнятное движение, прошедшее по комнате, чуть
переменившиеся позы, - но это уже просто Надя и Таня, и они - здесь и сейчас.
Торопливо тянется к своему блокнотику Надежда, - успеть записать, пока не ускользнуло из сознания…
Глоток воздуха. Передаваемая из рук в руки бутыль с пивом, звон гитарных струн, испуганно отлетающий
смех… Вскочив со своего места, Верка бежит к холодильнику – за сыром и колбасой, за походным складным
ножичком – резать бутерброды. Надя и Таня обмениваются какими-то текстами, аккордами и уже совершенно
цивильными воспоминаниями. Перевести взгляд с одной на другую: не враги – друзья, удержавшиеся на грани.
И только тогда, запершись на несколько минут в туалете, Верка дает волю слезам…
… Фотография, сделанная дешевой камерой-мыльницей: две женщины, одна постарше, другая – моложе,
красивые и доброжелательные, обнявшись, с чуть напряженными улыбками смотрят в фотообъектив…
Надя - старше, сдержаннее, лучше владеет собой.
- Но отчего же, - в сотый раз допытывается у нее Верка, - отчего вы видите одно и то же, но так по разному?
- Но я не знаю, - как нечто очевидное, втолковывает Верке Надежда. - Ведь никто из нас не претендует на
абсолютную истинность видения. Могла я неправильно запомнить, могла - она. Возможно… следы чужого
влияния. И еще - стекло… информация преломляется через стекло…
Преломляется через стекло собственного сознания видящей…
- Я не понимаю Татьяну, - говорит Надя-первая, выслушав по третьему кругу нижегородскую историю. – Не
понимаю и еще раз не понимаю. Перед кем она исповедовалась? Я могу с ней говорить только в рамках
этого мира… ну, как жительница Москвы с жительницей Москвы. Как Надя с Надей - да пожалуйста,
сколько угодно. Наше вам удовольствие. В Арде… нет, не смогу. Представляешь, какой это барьер?
Верка молчит. Она не знает, что это такое - в Арде. Здесь, в Москве, она может говорить с кем угодно - хоть с
зеленым, хоть с синим в желтенькую полосочку. И еще - наученную горьким опытом, ее пугает даже тень
непонимания между ее друзьями. "А с Николаем Павловичем поговоришь? Расскажешь ему о том… о том,
что он…" - кричит подсознание.
- Простить, - вяло говорит Верка. - Это все слова. Ты сможешь простить… - и вдруг полоснуло ножом
старое, полузабытое: - Разве ты не простила Сергея?
Они пережили и эту вражду, и эту ненависть, пережили годы назад: сто семьдесят лет назад на Украине и
десять лет, прошедших суетливой, пестрой чередой после институтской скамьи. А теперь новой жизнью, новой
судьбой: скалистые пики Тангородрим - невыносимая мука - сколько дней? Сколько лет? Тридцать лет канона - и
вечность, начертанная навсегда огненными письменами в собственной памяти. "… И не смог ни разжать
зачарованную петлю на его кисти, ни разрубить ее, ни вырвать из камня. Тогда стал он в муках вновь молить
родича убить его: но отрубил Финдекано ему руку выше кисти, и Торондор отнес их назад…" - "Слишком
поздно, Нельо…". Кусает губы Верка…
- Почему ты сделала это, Татьяна?
- Ты феаноринг, а я нолфинг… милосердие для меня выше справедливости…
- Почему ты сделала это, Татьяна?
- Знаешь, наверное, я ее слишком хорошо понимаю… наверное, мы слишком хорошо друг друга понимаем -
как женщина женщину…
… Закончилась Первая Эпоха - и не осталось следов на песке, и конец един, и затонул погребальный курган в
скалах подле Гондолина, и огненная пропасть ничуть не лучше и не хуже вечной тьмы за гранью мира, и ни для
кого из них не осталось надежды, - только Верка все еще ждет непонятно чего, в удивлении разглядывая
медленно падающие за окном хлопья первого снега. В ее, Веркин, мир, пришла зима…
.. Снег, метель, зима, год … какой это был год? Она, Вера, - она, Ревекка, не помнит.
Глухой декабрьской ночью одинокий всадник сошел с коня возле офицерской избы, стоявшей на отшибе после
деревни и нетвердой рукой постучался в дверь. Мертвая тишина стояла в доме, только стены тихо звенели от
ночных невысказанных песен. Приехавший стукнул еще и в ожидании ответа прислонился к двери, тяжело
дыша после скачки. Равнодушная луна освещала бледное лицо, неровный рот и длинные заснеженные ресницы.
Наконец, дверь отпер некрасивый, угрюмый человек и исподлобья посмотрел на Приехавшего.
И странно звучал их ночной разговор перед Богом.
- Ты ли это или ночь посылает мне видения? - спросил Хозяин недоверчиво и приблизил свечу к лицу
Приехавшего, но тот отстранился, словно опасаясь, что Хозяин увидит боль в красивом лице.
- Я. Прости, что разбудил тебя, но позволь мне проститься с тобой в преддверии вечности...
- Так... Ты, значит, едешь? - Еду.
- Не надо. Останься. Вчера вскрылся лед на Стогне и забил черный ключ. Видел ты это?
- Черный? Я видел ключ лиловый, розовый, золотистый - да не все ли равно! Это просто нервы. Время стучит
в окно. Сколько ты будешь ждать, прежде чем ляжешь спасть навсегда?
- Целую вечность, если позволишь. Но не верю я, что едешь ты с чистым сердцем. Что-то ты слышал и
молчишь...
- Друг мой застрелился.
- А... Знал я его?
- Нет, на свое вечное счастье. Забери собаку и дай мне войти в дом.
- Перестань, прошу тебя. Дорога обледенела. С каких пор ты будишь друзей по ночам и пугаешь их, точно
призрак?
- А может, я и есть призрак?.. - засмеялся Приехавший. - За заставой горят огни - там уже нет ни дороги, ни
льда. Разбуди меня с рассветом.
- Рассвет близок. Я знаю тебя уже четыре года, и полгода дороги не перечеркнули для меня трех лет любви.
Если эта ночь свела тебя с ума, тебе бы следовало прийти в другой дом. Когда ты в последний раз молился?
- Не помню. Может, пять минут назад, а может, годы. Я пришел в дом, где меня поймут - сердце мое изнемогло
от этой любви...
- Сядь и выпей горячего молока. За окном метель. Ты не боишься встретить своего двойника в зимней степи?
- Что же... Это не худшая встреча, которая может нас ожидать. Если я не вернусь, ты будешь ждать меня вон за
той околицей.
- Ты всегда так распоряжаешься... живыми?
- Нет, только по ночам, и только теми из живых, которые действительно хотят жить. Но почему ты сейчас не
веришь мне?
- Верю так же безгранично, как и раньше. Но ты сам не знаешь, что говоришь. В твоих глазах тоска
обреченности - я не могу видеть, как ты страдаешь. Скажи мне, что толкает тебя в эту ночь?
- Всего лишь робкий голос надежды...
- Надежды? Или сомнения? Почему ты боишься раскрыться навстречу верящему? Слезы твои не пропадут во
тьме.
- Наверное, я просто себя немножечко боюсь. Но ты - я не узнаю тебя. У тебя ли разыгрались нервы и ты
веришь в сказки как деревенская баба? Летом ты задавал совсем иные вопросы...
- Летом... Тогда мы были глупые, обиженные дети, у которых отняли любимую игрушку. Эта осень нас
многому научила. Прости мне мою настойчивость, но я... я не сумел бы потерять тебя...
Бледная свеча горела на столе, отбрасывая призрачные круги на окно. При неровном ее свете лицо
Приехавшего казалось плоской маской застывшего отчаяния, лишь серые губы беззвучно шептали что-то, а
тонкие пальцы нервно перебирали бахрому скатерти.
«Господи, - думал он, - три года вел ты меня к этому моменту, и я был покорен твоей воле. Почему же настиг
столь неожиданно и неготовым? Почему не дал еще зиму передышки? Разве тебе ведомо, как трудно начать то,
что давно задумано и решено? Что получил я от тебя за эти годы, очищенные страданием и пользой ближнего?
Голос вечности и ночи? Колокольчик одиночества? А глотка простого счастья и женского тепла разве я не
заслужил?
Надежда моя неотвратимая... Пронеси свой крест мимо меня, ибо не тебя, но твоя тень я любил...»
Хозяин дома все смотрел в окно, за которым бушевала метель.
- Оставь скатерть, - буркнул он, не оборачиваясь, - у тебя жар, и я не выпущу тебя в такую погоду из дома.
- Брось, - поморщился Приехавший лениво, ничему не удивляясь, - Твоя фляга?
- Моя. Выпей, коли так.
- А все-таки хорошую сивуху гонят в этой богом забытой деревне, - откашлявшись, заметил он и беззвучно
рассмеялся. Странный этот смех Приехавшего ударил Хозяина точно пощечина, он переменился в лице,
оскалился и был готов, казалось, ударить собеседника в ответ, но вдруг опустился перед ним на колени и затих.
- Ты не должен бояться, - шептал тем временем Приехавший, ероша гибкой рукой волосы
коленопреклоненного, - Я был бы недостоин этой любви, но знать желаю - чем искупить мне твою
преждевременную тревогу? Не добра ли ждал...
- Не надо. Слишком много вечных истин для одного человека. Достаточно зимней дороги. И сквозь этот снег
когда-нибудь прорастет трава...
- Доживем ли?.. Твои слова так же счастливы, как безнадежны. Можешь впустить в дом вон ту ночную птицу,
что бьется об стекло?
- Могу ли ради тебя? Это просто ветер. Черный ключ вскрылся вчера на Стогне, и река пела весь день. Спой - я
так давно не слышал твоего голоса.
- Вьюга поет. Мне ли сравниться с ней?
- Спой, прошу тебя. Сегодня рассвет никогда не наступит, - вьюга убила все живое и значит...
- Значит, надо ехать. Но ты прав - я спою перед отъездом колыбельную песню... Колыбельную для призрака…
для себя.
Хозяин стоял теперь у дверного косяка, и руки его заметно дрожали. А Приехавший запел, и высокий голос его
переливался в полутемной избе, сливаясь с призрачными зимними голосами за окном, с белесым огнем свечи,
со скрипом половиц, с участившимся дыханием Хозяина и с собственной неизбывной верой в искупление
Всевышнего.
«Господи, прости мне мои страдания... Ошибся ты в своем выборе - нет сил у меня прекратить эту песню и
выйти за дверь в темноту. Да будет горька моя доля, и не отнимешь ты у меня силы власти всевидящей над
этими людьми, но пощади души невинные... За какие грехи боль такая сердце разрывает?..»
Рука соскользнула с косяка, - Хозяин плакал, и голос прервался на самой высокой ноте.
- Не могу я, - сказал он, подавляя рыдание, - хоть знаю я, что нет такой силы на этой земле, чтобы остановить
тебя, но пусть не моими руками...
«Господи, - снова заголосила душа Приехавшего, - неужели ты не услышишь его молитву? Разве чужого горя
мог ты хотеть, указывая мне одному судьбу? Какого креста ты еще хочешь на вечной дороге?..»
- Пора мне, - сказал он хрипло, и уже нельзя было сказать, что это он пел минуту назад небесным голосом, -
Посвети здесь в сенях.
Хозяин взял дрожащими пальцами погибающую свечу и в последний раз осветил ей Приехавшего в дверном
проеме перед последним шагом в белую ночь.
- Об одном прошу тебя, - взмолился вдруг уходящий, - ради меня, - постарайся уберечь тех, кто любил меня, -
от зимней дороги и черного ключа на Стогне. А на мой век сохрани еще горсть чистого снега, чтобы было чем
умыться, когда вернусь. Я не прощаюсь с тобой. Жди.
Они сжали друг другу руки, пытаясь еще удержаться над бездной, но метель слепила их и сносила с обжитого
крыльца.
«Господи, ты видишь, я не противлюсь более, но дай хоть луч света впереди, чтобы не наощупь...»
- Жди, - еще раз повторил он непослушными от холода и муки губами и шатаясь, пошел по занесенной улице в
горящую вдали пустоту. Хозяин не двинулся с места. Белые бабочки заносили его спокойное лицо.
- Да будет легок твой путь, - сказал он без надежды, что ушедший его услышит. Свеча в руке догорела. Он
вошел в опустевший дом, запер дверь, и, не раздеваясь, в полном душевном изнеможении погрузился в
последний предутренний сон. И метель, врываясь в его покой, застилала улицы и проселочные тракты и
гнала по ним коляску с двумя людьми, едущими в эти предутренние декабрьские часы навстречу
обреченной неизвестности.
В ту же ночь к Хозяину пришла девушка в темном платье с длинными косами. Пришла, и не говорила ни слова,
и долго сидела в неподвижности, а потом запела колыбельную песню. И лишь потом спросила:
- Почему ты отпустил его?
- Я не мог иначе. Это был его собственный выбор. Клятва вела его. Клятва - и Эстель.
- Эстель? - удивляется девушка. - А кто даст Эстель мне?
- Недолго пробудет он в чертогах Мандоса.
- Но зато я не Амариэ.
А потом девушка встала и ушла…и унесла с собой - чистым листом, - обрывки воспоминаний…
… Разведка возвратилась в два часа ночи. Никто в маленьком импровизированном штабе восставших не спал.
Офицеры тревожно переговаривались, глядя, как Иван Сухинов, бледный, с перекошенным лицом прошел
прямо к Сергею.
Через минуту они вышли. Сергей одним взмахом руки оборвал поднявшийся шум.
- По донесению нашей разведки, 17-й Егерский полк вышел из Белой Церкви в неизвестном направлении.
Вместо него там сейчас размещены другие войска, в которых наших людей, по-видимому, нет.
Шум поднялся вновь.
- В связи с этим, - повысил голос Сергей, - мы выступим через два часа через село Трилесы в направлении
Житомира, на соединение с 5-й Артиллерийской бригадой.
Анастасий Дмитриевич вскочил первый.
- На каком основании, господин подполковник, вы один, не посоветовавшись ни с кем, принимаете такие
решения? Вот уже пять дней мы топчемся на одном и тот же месте, и теперь, вместо того, чтобы идти прямо на
Киев и упасть им, как снег на голову...
- В таком случае вы, поручик Кузьмин, можете принять на себя командование полком.
Анастасий Дмитриевич сник, как-то истерически всхлипнул и затих.
Сергей, бледный и прямой, обвел взглядом собравшихся, пытаясь уловить малейшие сомнения. Восемь пар глаз
смотрели на него с последней отчаянной надеждой. Сергей опустил голову.
- Еще не может быть все потеряно, - торопливо заговорил он, - мы знаем, что нас ждут Горбачевский и его
артиллеристы.
- Трое трусов опять сбежало этой ночью, - снова поднялся Кузьмин.
Офицеры снова зашумели, торопливо оглядываясь по сторонам, словно проверяя, все ли на месте. Сергей
быстро вскинул глаза.
- Пусть уходят, - сказал он, - Это не были наши люди. Между нами нужно доверие.
Повисло напряженное молчание.
- Мы верим тебе, - наконец, сказал Соловьев.
Оставшиеся два часа до решающего броска почти никто не мог заснуть. Лишь поручик Щепилло богатырски
захрапел в своем углу, да Андрей Быстрицкий, - неожиданный союзник - задремал сидя, привалившись плечом
к молчаливому Соловьеву. Остальные разбились на пары и группки. Иван и Анастасий нервно ходили по
комнате, играя пистолетами. В сторонке тихо переговаривались братья - Матвей и Ипполит. Сергею вдруг до
смерти захотелось подслушать их разговор, но он не осмелился подойти. Неожиданно он почувствовал себя
одиноким и никому не нужным. Даже Мишель нашел себе какое-то другое занятие. Сергею хотелось говорить с
кем-то, лишь бы не остаться наедине со своими мыслями.
Он свистнул собаку.
- Старый друг, - спросил он, - скажи, будет ли нам сегодня удача?
Пес молча положил лапу ему на колени, в янтарных собачьих глазах светилась тихая преданность. Сергей
прижался к теплому боку и так затих.
Обрывки разговоров долетали до него:
- Два дня зря проторчали в этой Мотовиловке...
- Счастлив тот, кто может найти свое призвание на лоне семьи...
- Поражения не перенести...
- А если погибнем завтра, то есть еще шанс тайно скрыться и пробраться в Петербург для изведения Государя...
«Господи, - взмолился Сергей, - если ты сам хотел этого, ты не допустишь нашей гибели. Ты явишь завтра
чудо...» Но тот Голос, что являлся ему бессонными ночами на протяжении последних трех лет, - этот Голос
смолк в его душе, и никто не ответил ему.
- Лучше открытый бой, чем эта неизвестность. Пять дней в пустоте...
- Стремиться всегда к созиданию во имя близких людей...
- Во всех войсках есть наши люди. Солдаты не станут стрелять...
Сергей поднялся и подошел к Соловьеву, встретив взгляд его широко раскрытых глаз. Веничка молча
подвинулся, давая ему место.
- Что же ты не спишь? - спросил Сергей, просто, чтобы что-то сказать.
Соловьев чуть улыбнулся: улыбка вышла напряженная, неестественная. И все же и от этой улыбки стало как
будто чуть теплее…
- А ты?
Сергей пожал плечами: он не знал ответа.
- Мы верим тебе, - неожиданно повторил Соловьев. Сергей затаил дыхание.
- Почему? - спросил он и тут же пожалел, что спросил.
- А во что нам еще верить? Спи, ради бога, спи...
Сергей постарался не обдумывать его ответ. Он уронил голову на верное Веничкино плечо и тут же заснул.
Через два часа полк выступил на Житомир. Быстрый марш на морозном воздухе, казалось, освежил всех;
угаснувшие надежды начали возрождаться. Выспавшийся за ночь Щепилло орал песни зычным басом. К
одиннадцати дня дошли до Ковалевки и вновь остановились на отдых. Барский эконом накрыл стол на всю
компанию. Обедали неожиданно весело, потому, что уже прошел слух, что на подавление их послана 5-я
Конная рота, где командуют свои. Разливался соловьем наивный Мишель, расписывая, как радостно они будут
брататься с артиллеристами. Они, кажется, верили, - потому, что хотели поверить. Попросили Сергея спеть - он
с готовностью согласился. Слушали восторженно, умиленно, с какой-то особой, просветленной радостью,
последней надеждой на добро и счастье. Вдруг Щепилло, единственный, кто, казалось, за пять дней не
выказывал никакой тревоги; грубый, жизнерадостный и безмятежный Щепилло, сказал, как из пушки выпалил:
- Надо бы сжечь бумаги... Вообще все лишнее.
Повисло тяжелое молчание.
- Зачем? - в упор спросил Сергей. Щепилло смутился.
- Мало ли что, - пробасил он, - как скажешь, впрочем...
Но Сергей уже принялся вытаскивать бумаги.
- Брат, - взвился Матвей, - как ты можешь, это же наши письма! Подумай, что мы лишаемся своего прошлого!
Наша покойная мать...
- Подумай, - быстро оборвал его Сергей, стараясь, чтобы никто больше не слышал, - где могут оказаться эти
письма завтра.
- Но, Сережа, - жалобно взмолился Мишель, - сейчас, когда наши так близко...
Сергей уже растопил камин. Соловьев, встав на колени, принялся помогать ему. Вскоре и остальные,
ошеломленные, стали рыться в своих документах, пачками, не глядя, бросать их в огонь. Заглянувший в
комнату эконом, увидев, чем занимаются его гости, слегка побледнел. Соловьев встретил его взгляд.
- Я надеюсь, господин Пиотровский, - тихо сказал он, - что вы честный человек.
- Ради бога, увольте меня, господа, я не мешаюсь в ваши дела. Делайте, что хотите, только не спалите мне весь
дом.
- Мы будем осторожны, - заверил его Соловьев.
Испуганный эконом поспешил удалиться. Жгли зло, остервенело, как будто без сожаления расставаясь со
своим давним и совсем недавним прошлым, жгли даже совершенно невинные бумаги, просто, жгли просто для
того, чтобы ничего не оставить после себя. Кроме Матвея, никто не оплакивал свои сокровища.
Иван развеселился.
- Сварим кофе. Не пропадать же зря добру.
Его поддержали, хотя и без особого энтузиазма.
- Что ж, вари, пожалуйста, - равнодушно согласился Соловьев.
- Я помогу, - вызвался Сергей.
Они пили кофе и молча смотрели на чернеющие и шевелящиеся в огне, как живые, остатки бумаг.
Когда все было кончено, Сергей сказал:
- Мы пойдем через степь. Это значительно сократит путь. Мы должны засветло прийти в Трилесы.
- Но ведь против нас идут войска, - робко возразил Быстрицкий, - ему было неловко высказываться, он,
примкнувший к восставшим в последний момент, чувствовал себя чужим здесь.
- Войска несомненно присоединятся к нам. Вы же слышали - там наши, - восторженно воскликнул Мишель и
осекся, встретив свинцовую тяжесть взгляда Сергея.
- Брат, - поднялся Матвей, - сейчас только в твоих силах остановить безумие и кровопролитие. Я вижу, что ты
сам не веришь в успех этого предприятия. Твой долг и твоя совесть подсказывают тебе теперь сложить оружие
и сдаться властям.
- Ах ты, сволочь, - вскочил Кузьмин, - ты предлагаешь нам сейчас сложить оружие! Да если бы не ты, мы бы
могли уже сейчас быть в Киеве и, быть может, праздновать победу. Я говорил, я просил тебя, Сергей, удалить
от полка этого штатского недоумка. Этот человек погубил нас!
- Сударь, - Матвей Иванович, бледный от злости, затрясся всем своим рыхловатым телом, - по какому праву вы
становитесь между родными братьями и уже не в первый раз?
- По тому праву, милостивый государь, что я отдал нашему делу всю свою жизнь, и я не желаю теперь
сдаваться по милости отставного труса!
- Анастасий! - тихо упрекнул его Сергей.
- Я люблю вашего брата больше, чем вы, сударь, мне не будет жизни без него, - успел добавить Кузьмин, и,
вдруг, заплакав тяжелыми слезами, неловко осел на пол.
- Брат, - снова начал Матвей, но тут заговорил Иван:
- Если войска близко, нам лучше идти через деревню. Это дольше, но надежнее.
- Я чувствую, - стараясь сдержаться, иронически сказал Сергей, - что мне лучше сложить командование. У меня
появилось слишком много советчиков...
- Иван Иванович, - снова встрял Мишель, - но ведь это же наши войска. Мы заразим их своим энтузиазмом...
Иван отмахнулся от него, как отмахиваются от назойливой мухи, и снова обратился к Сергею:
- Спору нет, ты начальник, - в эту минуту спокойно-примирительный тон Сухинова совершенно не походил на
его обычную злую иронию, - но ты боевой офицер, Сергей, и ты должен знать не хуже меня, что если солдатам
будет дан приказ стрелять, - а им будет дан такой приказ! - то они будут стрелять. Я знаю, что ты верующий
человек, Сергей, и ты надеешься на милость Всевышнего, ну а мы, - всего лишь атеисты, и мы можем надеяться
только на тебя. Мы поверили в тебя два года назад. И теперь я прошу тебя не как подчиненный, а как друг - не
губи себя и нас. Если же ты допустишь... если позволишь, что нас расстреляют на открытом месте, точно
слепых беспомощных котят, то я... я первый прокляну тебя. Никогда больше, слышишь, никогда не будет тебе
покоя и прощения!
- Идя через деревни, крови не избежать, - буркнул Кузьмин, поднимаясь с пола.
- И то славно, - гаркнул Щепилло, похоже, плохо уловивший общую нить разговора.
Сергей переводил взгляд с одного на другого.
- А ты, Веничка, - спросил он, - что же ты молчишь?
Соловьев помялся.
- Я думаю, Иван прав, - сказал он, наконец, - но, может быть, ты знаешь что-то, чего мы не знаем. То, чего
нам просто не дано знать… - чуть помедлив, добавил он. - Во всяком случае, если ты решишь идти через
степь, то и мы тебя не покинем. Теперь решай.
Последнее слово – как приговор – не оправдаться.
Сергей кивнул и присел, собираясь с мыслями. Офицеры напряженно ждали.
- Мы пойдем через степь, - приказал Сергей спустя несколько минут. - Кто бы там ни был - наши или не наши -
они должны нас видеть...
- Брат... - ахнул Матвей. Мишель восторженно завопил. Иван стиснул зубы.
- А если, - возвысил голос Сергей, перекрывая начавшийся шум, - если со мной что-то случится, Иван Сухинов
назначается моим заместителем и примет команду в мое отсутствие. Приказ ясен?
Все замолчали. Им словно до сих пор не приходило в голову, что с Сергеем, - с их кумиром, с их божеством, с
глаголящим во имя господне, - может что-то случиться.
Иван вспыхнул, вновь хотел что-то возразить, но передумал.
- Слушаюсь, господин подполковник, - сказал он быстро, опуская голову.
- Как бы там ни было, - проворчал Кузьмин, - а меня, во всяком случае, живого не возьмут.
Соловьев первым вышел отдавать распоряжения своим солдатам.
Тронулись открытой снежной степью. Не прошли и нескольких километров, как в задних рядах
распространилась паника. Сергей подъехал туда.
- Что случилось?
- Ваше благородие, - неуверенно ответил солдат, пряча бегающие от страха глаза, - как будто бы стреляют.
Кажись, ядро в обоз упало...
- Ты сам слыхал выстрел?
- Нет, ваше благородие, но говорят...
- Это выдумки последних трусов. Ты, Никифоров, боевой солдат, а не баба на полати. Ну-ка, песню!
- Слушаюсь, ваше благородие!
Сергей вновь отъехал в голову колонны.
- Иван, говорят, стреляют, - быстро сказал он.
Иван вспыхнул и нехорошо выругался.
- Строй колонну плотнее!
Но прежде, чем они успели перестроиться и отойти на сколько-нибудь значительное расстояние, как услышали
крик отъехавшего вперед Соловьева:
- Там, впереди, конная артиллерия!
Сергей и Иван быстро и зло переглянулись.
- Это наши, наши, - приглядевшись, в восторге закричал Мишель, - это конная рота Пыхачева! Сережа, ты
видишь, что это наши?!
- Может быть, - процедил Сергей сквозь зубы, пытаясь на ходу собраться с мыслями.
- Наши! - завопил радостно дюжий Щепилло, - Видите, они не стреляют! Они ждут нас!
«Господи, неужели и правда ты не допустишь этого проклятия?!»
Звук картечного выстрела прервал его размышления.
- Они стреляют холостыми! - кричал Мишель, - Это добрый знак!
Но остальные, казалось, почувствовали недоброе.
- Сергей, - подбежал Кузьмин, - мы можем попытаться отбить эти пушки. Вызови стрелков...
Вторая картечь разорвалась совсем рядом с ними.
- Не стрелять! - Как-то истерически закричал Сергей, выезжая на коне прямо под картечь. - Никому не
стрелять! Идти вперед!
- Они стреляют холостыми! - еще раз успел воскликнуть Щепилло и вдруг, огромный, мешковатый, медленно и
тяжело осел на снег; и снег, только что девственно белый, окрасился темно-красными пятнами, стремительно
расползающимися пятнами.
Иван, стоявший рядом, успел подхватить падающего.
- Он мертв, - объявил он, глядя в упор на Сергея снизу вверх.
- Приготовиться к бою, - закричал Сергей и осекся. Боли вначале он не почувствовал, только толчок, и кровь
тут же залила его лицо, застилая глаза и мешая что-либо увидеть. У него закружилась голова, он еще
почувствовал, что чьи-то руки, кажется, Ивана, подхватили его, он вырвался, пытаясь скомандовать, - и потерял
сознание.
… Он очнулся от холода, пытаясь вспомнить, что произошло и где он находится, и увидел залитый кровью
подтаявший снег. Жирная липкая кровь стекала по его лицу. Он зачерпнул пригоршню снега рукой и попытался
отереть кровь, - но лишь размазал ее по лицу. Потом поднялся и попытался идти в неизвестном направлении.
Кажется, он отошел далеко от места боя, - едва слышны были, затихая, крики и выстрелы.
Неожиданно к нему подбежал Соловьев.
- Сергей! - тихий обычно, Веничка истерически всхлипывал - то ли плакал, то ли смеялся. - Господи, живой,
живой! А мы уж не чаяли...
Сергей смотрел словно мимо него, не узнавая.
- Сергей... - Веничка спохватился, судорожно пытаясь снять с себя какой-то шарф, чтобы перевязать раненого.
Кое-как это ему удалось. Он взял Сергея за руку, пытаясь вести его за собой, - но Сергей не стоял на ногах, и
Веничка, обессилев от любви и усталости, опустился вместе с раненым на снег.
- Брат... - сказал Сергей.
- Сергей, - Соловьев был встревожен, - ты… ты бредишь? Ты разве не узнаешь меня? Это ж я, я - Вениамин
Соловьев.
- Да, - сказал Сергей, кивнув, - но полной уверенности, что он его узнал, у Венички все же не было. Он не знал,
что ему делать с раненым. Он вообще не знал, что ему теперь делать.
- Что там? - спросил Сергей, не открывая глаз.
- Там? - не понял Веничка.
- Там... где наши...
- Там все кончено, - просто сказал Веничка, - мы еще пытались что-то делать, но... когда солдаты увидели, что
тебя нет, они сложили оружие. - Он уже не был уверен, что Сергей его слушает, просто говорил сам с собой. -
Потом мы стояли под самой картечью - я, Иван, Анастасий, Мишель и твой младший брат - и остались живы.
Почти все.
Сергей уже пришел в себя.
- Брат... - снова переспросил он. - Где мой брат?
- Какой? - Соловьев отвел глаза.
- Ты, кажется, говорил про младшего...
Соловьев не ответил.
- Ты... не знаешь?
- Ну хорошо, - нехотя сказал, наконец, Соловьев, - все равно ты узнаешь. Он убит... Точнее... он застрелился,
когда его, раненого, гусары хотели взять в плен.
Он пожалел о сказанном, но все же надо было договорить, досказать, - сжав зубы и не глядя в лицо.
- Сергей, он... я видел... он умер мгновенно. Мы тогда думали, что тебя нет в живых...
- Значит... - медленно сказал Сергей, - вот оно, проклятие...
- О чем ты? Ты бредишь?
- Нет... Иван сказал... Где Иван?
- Я... не знаю. Он исчез в последний момент. Его не видели среди убитых. Может быть, он сбежал.
- Слава богу, - быстро прошептал Сергей.
Соловьев удивленно посмотрел на него.
- А ты? - вдруг спросил Сергей.
- Что...я?
- Почему ты не бежишь?
Веничка задумался. Такая мысль даже не приходила ему в голову. Он всегда знал, что его место только вместе
со всеми. И, - он не думал, что радуется побегу Ивана.
- Лишь вместе с тобой, - ответил он, наконец. Сергей усмехнулся.
- Неужели ты можешь простить мне?
- Простить? - как будто бы удивился Веничка, - но мне нечего прощать, Сергей, - твердо сказал он. - Ты ни в
чем не виноват... передо мной, во всяком случае.
- Ты милосерден... Ты верил мне... - Сергей говорил с трудом. У него снова открылось кровотечение.
- Ну хватит, - вздохнул Веничка, незаметно вытирая грязным рукавом глаза. - Здесь нельзя больше сидеть. Раз
ты не хочешь уйти, нам остается только вернуться к своим. Ты можешь идти?
- Не знаю, - прошептал Сергей, - нет, наверное.
Он попытался подняться, но голова у него закружилась, и он снова опустился на снег.
К ним подбежал Мишель и бросился Сергею на шею.
- Вот вы где!
- Осторожно, - сказал Соловьев одними губами, не двигаясь с места, - не трогай раненого.
Что-то в его лице сейчас было такое, что заставило даже Мишеля отступить в сторону. Он сел рядом на снег.
- Мы могли пробиться, - всхлипнул он, - там пушки... наши... и они стреляли в нас...
- Нет, - все так же тихо возразил Веничка, - мы не могли пробиться.
- Зато, подумай, Сережа, все-таки мы подали собой пример, и героизм наш великий и величественный
останется в назидание...
- Он не может идти, - сказал Соловьев, прерывая излияния Мишеля, - сходи за помощью.
- Нет, - заплакал Мишель, - я не оставлю своего возлюбленного друга в такую минуту. Если нам суждено
погибнуть, то только вместе.
- Не трогай его, - неожиданно попросил Сергей Веничку, - куда он пойдет, в самом деле?
Соловьев вздохнул.
- Мы замерзнем здесь насмерть.
Он встал, собираясь сам идти и искать неизвестно какой помощи. Ноги плохо слушались его, глаза застилала
пелена; он сделал не более десяти неверных шагов в подступивших сумерках и наткнулся на обыскивавший
поле гусарский разъезд.
- На поле боя взято шестеро живых, - докладывал гусарский командир, - и два трупа. Рядовые не в счет.
Шестерых разместили в пустой корчме.
Веничка долго и ожесточенно ругался с караульным, требуя оказать помощь раненым. Наконец, ему дали
охапку грязной соломы и какую-то тоже грязноватую, неструганую лавку.
- Офицеров, - взвизгнул Веничка, - на солому... - и снова заплакал, - У меня трое раненых...
Караульные грубо захохотали.
- Так вам и надо, панам чертовым, мародеры, так вашу мать, - караульный смачно сплюнул, затейливо и
витиевато ругаясь.
- Господин офицер, - воскликнул Соловьев, обращаясь к начальнику караула, - прикажите замолчать этим
глупцам!
Офицер посмотрел на него удивленно, усмехнулся в усы и вдруг отвесил солдату здоровую оплеуху.
Караульный сморгнул от неожиданности.
- Что, доволен, сука? - беззлобно спросил он Веничку, и снова захохотал.
Офицер захлопнул дверь и с шумом задвинул замки.
Все еще всхлипывая, Веничка принялся, однако, устраивать раненых на том, что было, - ибо ничего лучшего
ожидать не приходилось. Сергея, в полузабытьи, уложили на лавку, и Матвей уселся у него в ногах. Соловьев
хотел помочь, но Матвей Иванович заявил, что никому не позволит ухаживать за своим братом. Веничка пожал
плечами и отошел, занимаясь другими делами.
- Брат... - позвал очнувшийся Сергей.
- Я так счастлив, брат, что ты остался в живых, - взволнованно заговорил Матвей, - ты не поверишь, но когда
тебя привезли, мы думали, что ты не выжил. Но теперь-то мы всегда будем вместе и уже не расстанемся до
самого конца.
- Да, - сказал Сергей.
- Я уверен, что даже в заключении или в Сибири на каторге нас не посмеют разлучить.
- Да.
Матвей замолчал, не зная, что еще сказать.
- Брат Ипполит убит, - добавил он, наконец.
- Я знаю, - сказал Сергей равнодушно.
- Откуда? - вскинулся Матвей.
- Соловьев сказал... И со всеми подробностями... Да теперь уже все равно.
- Но, Сергей, - возмутился Матвей, - как ты можешь так говорить...
- Брат, - кротко сказал Сергей, отворачиваясь к стене, - у меня болит голова.
Матвей обиженно замолчал. В это время сзади кто-то окликнул его. Матвей обернулся - возле него стоял
Анастасий Кузьмин.
- Что вам угодно, сударь? – в возмущении, вскинулся было Матвей, но что-то в лице Кузьмина заставило его
переменить тон.
- Анастасий Дмитриевич, - сказал он, отводя глаза, - вы меня простите, что я вчера... я на вас...
- Нет, это вы меня простите, Матвей Иванович, - ясным голосом сказал Анастасий, - думается теперь, что вы
были правы вчера. Поверьте, я умею ценить... данные мне уроки.
- Ну, что вы... - смутился Матвей.
- И насчет того, что я становился между вами и братом, - продолжал, не обращая внимания на слова Матвея,
Кузьмин, - больше этого никогда не будет. - Сергей, - вдруг обратился он, - ты меня слышишь? - и, не
дожидаясь ответа, добавил:
- Я был счастлив твоей дружбой и доверием. Я хочу, чтобы ты знал это, если мы больше не увидимся.
И пошел, покачиваясь, на свое место. Матвей удивленно посмотрел ему вслед.
- Матюша, - попросил Сергей, - помоги мне подняться.
- Зачем? Тебе надо лежать...
- Хочу подойти к нему... к Анастасию. Он что-то говорил, но я не понял, что.
Матвей пожал плечами и попытался поддержать Сергея, но тот от слабости, не устояв на ногах, вдруг резко
осел на пол.
- Боже мой! - воскликнул Матвей.- Сергей, ты жив?! Да помогите же!
Веничка, подошедший было на помощь к Кузьмину, заслышав этот крик, бросился к Сергею, но еще обернулся.
- Иди, иди, - спокойно сказал ему Анастасий, - иди скорее. Веничка с сомнением посмотрел на него, словно
предчувствуя недоброе, но Матвей снова крикнул: «Помогите!», и Соловьев сломя голову бросился туда.
Как раз в этот момент прогремел выстрел.
На какое-то время все оцепенели, а потом в тишине раздался пронзительный, высокий, какой-то бабий крик.
Кричал, словно мучительно задержавшись на одной ноте, Веничка Соловьев, и остальные обернулись в его
сторону. На соломе лежал Анастасий Дмитриевич, - или, точнее, то, что осталось от него. Рядом с ним лежал
пистолет - новенький пистолет Ипполита. Солома, дощатый пол, - все сразу пропиталось кровью.
Подскочившие караульные, матерясь, выволокли нелепо скорчившееся тело на улицу, не обращая внимания на
Веничку, который цеплялся за них, кричал и бился в истерике. Его оттащили.
- Я, я виноват, - кричал он, - я один знал, что он ранен, я не догадался вытащить у него пистолет...
- Перестань, - сказал Соловьеву Андрей Быстрицкий, - он морщился от боли, но стоял на ногах, - никто бы
ничего не успел сделать. Иди лучше помоги Сергею Ивановичу - от этого шума он никак не придет в себя.
- Андрей, - вдруг в отчаянии спросил Веничка, - зачем ты здесь, с нами? Что тебя-то заставило остаться?
Андрей как будто бы удивился вопросу.
- Когда тебя вначале арестовали, я принял командование над твоей ротой. А потом, когда все стали уходить, я
просто не смог уйти. Глупость? Наверное, глупость, - но я все же надеюсь, что не подлость.
Соловьев кивнул.
…Когда Сергей пришел в себя, то снова увидел склонившегося над собой Веничку.
- Лежи, лежи, - сказал Соловьев, заметив, что Сергей пытается приподняться.
- Где Матвей?
- Я его отправил спать. Он устал.
- А ты?
Соловьев не ответил.
- Что случилось? Мне показалось, я слышал выстрел...
- Анастасия больше нет, - просто сказал Веничка и добавил некстати, - это был пистолет твоего брата.
- Значит, - прошептал Сергей, - никуда уже не деться от этого проклятия...
- Где он? - встрепенулся вдруг Сергей, и как будто какая-то искра интереса мелькнула в его усталых глазах.
- Кто? Брат? Или Анастасий? - удивился вопросу Веничка.
- Да нет, не то, - поморщился Сергей. - Пистолет этот где?
- Ага, - невесело усмехнулся Веничка, догадавшись, о чем говорит Сергей, - нет уж, хватит с меня. Пистолет
забрали в караульную. А ты лежи. Хватит с меня. Такой грех на душе, Господи... - он снова тихо заплакал.
Остаток ночи провели молча. Измученные, потерянные, сидели и лежали, сбившись в промерзшей корчме в
одно место, не глядя друг на друга, - рядом, но не вместе. Когда утром дверь отворилась, они не сразу поняли,
что надо выходить. Поскольку никто сам не поднялся, караульные стали по одному выволакивать наружу
оставшихся пятерых пленников. От холода, они, казалось, пришли в себя.
- Быстро в сани, - заорал начальник караула.
- Подождите, - вдруг сказал Матвей, - господин офицер не откажет нам в разрешении проститься с убитыми.
Пьяные солдаты непристойно загоготали.
- Проститься с этой падалью?! Слышь, Петро? Да там у одного-то черепушки вообще нет!
И тогда вперед снова вышел Соловьев.
- Господин офицер, - заговорил он чужим, нехорошим голосом, весь дрожа, - и лицо у него тоже было чужое и
нехорошее, - дозвольте нам проститься с нашими мертвыми. Поверьте, мы не задержим вас надолго.
Начальник посмотрел на него.
- Идите за мной, - быстро сказал он.
Голые тела лежали на голом холодном полу. Сергею, едва державшемуся на ногах, помогли встать на колени.
Андрей зачастил молитву. Веничка крестился торопливо, нервно. Мишель сзади заплакал.
- Время, господа, - сказал начальник караула.
По очереди они поцеловали мертвых и вышли цепочкой,, по одному. Кроме Венички, никто не оглянулся.
- Как их похоронят? - спросил Соловьев у офицера.
Он пожал плечами.
- Вероятно, бросят в общую яму.
Их посадили в сани и повезли в Белую Церковь, и уже там - разделили, разорвав то непрочное единство, что
еще оставалось между ними…
"На сем переходе между деревнями Устимовкою и Ковалевкою, быв встречен отрядом генерала
Гейсмара, я привел роты, мною водимые, в порядок, приказал солдатам не стрелять, а идти прямо на пушки, и
двинулся вперед со всеми оставшимися офицерами. Солдаты следовали нашему движению, пока попавшая мне
в голову картечь не повергла меня без чувств на землю. Когда же я пришел в себя, нашел батальон совершенно
расстроенным и был захвачен самыми солдатами в то время, когда хотел сесть верхом, чтобы стараться
собрать их. Захватившие меня солдаты привели меня и Бестужева к мариупольскому эскадрону, куда вскоре
привели и брата и остальных офицеров. На все возмущение черниговскаго полка самое большое влияние и, могу
прибавить, единственное влияние имел я".
(Из "Анналов Следственного комитета", HomE IV, представляющих из себя так называемые "следственные дела", хотя на самом деле
это собрание записанных в разное время и плохо скомпонованных черновиков. После слов "приказал солдатам не стрелять, а идти прямо на
пушки", записано на полях рукой неизвестного мирогляда: "Все видели идиота?!")
Без зова, без слова, - как кровельщик падает с крыш:
А может быть, снова пришел – в колыбели лежишь?
Горишь и не меркнешь, светильник немногих недель –
Какая из смертных качает твою колыбель?
Ночь, затопившая недавно отремонтированная квартиру на десятом этаже непрестижного дома в
московском микрорайоне «Жулебино-2». Слабо мерцающий экран монитора. Сонное дыхание ребенка.
Рассыпанный по столу ворох старых, давно ставших ненужными тетрадок – еле слышно шуршат выцветшие
ломкие листы, вдруг оживая встающими перед глазами картинами. Женщина в ночной сорочке ворошит
волосы в полутьме, перебирает в пальцах милый драгоценный хлам веков и тысячелетий: это… БЫЛО. Портрет
женщины с косами в темном платье – Ревекка Смулевич собственной персоной. У женщины серые усталые
глаза… на рисунке она похожа на Верку – только моложе и красивее. Скорбь мира еще не коснулась ее: она
еще не знает о том, что где-то на соседней улице ступает по земле Сергей. «А глаза твои были синие…» – как
пел он, как шел по жизни красиво, легко и уверенно и, уж конечно, менее всего мечтал о героическом
восхождении на эшафот… Трясет головой, протирает глаза, надевает очки. Чистый белый лист в конце
тетрадки… Ночь…
Ночь… Вечная ночь на острове Тол-ин-Гаурхот. Ночь в Кронверкской куртине Петропавловской
крепости. Ледяная застывшая ночь во льдах Хэлкараксе. Беззвездная черная ночь над пиками Тангородрим.
Нескончаемая, невыносимая ночь за гранью мира. Ночь, которую не озарит больше золотой отблеск.
Стучит колесо прялки, отсчитывая время. В московских, самарских, питерских квартирах не спят - точно
передавая друг другу эстафету, женские руки качают колыбель.
Словно сыну своему – нерожденному, -
Я опять тебе пою колыбельную…
- Спи, моя радость, усни… Спи, маленький, крест мой, печаль моя и радость моя, дитя мое и возлюбленный
мой, велика скорбь твоя, горьки воды твои, тяжек рок твой… Спи, Нолмэ… Спи, Нельо… Спи, мэльдо,
Учитель мой…
- Спи, директор Свиньин… (кто знает, может и твоя сверкающая лысинка для кого-то - святыня)
- Спи, Сереженька, спи, любимый мой… Золотым облаком волос, снежинкой на ресницах твоих… Пуста
могила твоя, темны воды Финского залива, не уберегла я тебя… Острижены волосы мои, предала я тебя,
нет мне прощения – но сын мой спит рядом со мной… Защити его, не дай пропасть ему, не оставь любовью
своей… Освободи меня, отпусти дорогой своей – пусть уйду я, но ты – не уходи… Не пройти мне через
грань – не дотянуться рукой, но – ветром, светом, дыханием воды, дождем серебряным, - приду к тебе,
увижу тебя… Пусть – греховна, не свята – что в имени мне твоем…
Но омыты слезами и светом звезд
Будут раны твои и имя твое…
- Водою ключевою умою… Прощу тебе страдание твое… Нет мира душе твоей – спи спокойно… Спи…
Слезы горячие наши лягут росой на луга,
Высоко поднимутся травы и зарастут пепелища
И закроются раны и простит нам обиду
Душа в небесах…
В ночной затихшей квартире перебирает старые пожелтевшие листки Ревекка Смулевич. В Москве и Самаре,
на Земле и в Арде, за стеклом или через стекло – неизменные и вечные, как сама жизнь, - женские руки качают
призрачную колыбель…
- Я прошу вас дать мне свидание с заключенным в восьмом номере Алексеевского равелина.
- Простите, барышня, но ваша просьба невыполнима. Никак-с невозможно-с… Прошение о свиданиях
подаются на имя Его Императорского Величества, и то вряд ли вам будет дозволено, потому как даже
ближним родственникам…
Медленно Ревекка раскрыла сумочку и высыпала на стол деньги – все отцовское достояние, приданое для
четырех красавиц-дочерей. Вынула золотые серьги из ушей. Сняла кольцо с пальца. Напряженно ждала –
длинные косы, темное платье…
- Мало, барышня, - усмехнулся комендант. – Мало, драгоценная. Не губили бы вы свою душу, поезжали бы
вы обратно в свою черту оседлости, вышли бы вы там замуж за хорошего зажиточного человека – кантора
там, или торговца с капитальцем. Почто вам государственный преступник, по которому – того и гляди, -
виселица плачет?
- Я… только увидеть… на две минуты пропустите.
Усмехнулся устало. – Ничего не надо, забери свои стекляшки. Пойдем.
Скрип открывающейся двери.
- Сергей… это я… я пришла.
- Зачем?
И – остановилась, вглядываясь в полумраке в дорогое лицо: как изменился, осунулся, плохо заживший шрам,
косо перерезающий висок – казалось, еще кровоточит – сколько месяцев прошло?
- У меня есть деньги… я взяла у отца… мы сможем подкупить охрану… мы сможем бежать – за границу,
куда угодно… я хочу спасти тебя. Пойдем со мной, Сергей!
Медленный поворот головы в ее сторону – долгий, слишком долгий, слишком пристальный взгляд – взгляд в
никуда, бездонные провалы глаз – в темноте не синих, почти черных; расширенные зрачки. Мгновенный испуг
– она пришла зря. Криком – бессмысленным, жестоким, ненужным, - вырвалось:
- Ты не любишь меня!
Отдаленный свет в коридоре. Кривая полуусмешка.
- Я люблю… я любил тебя, Ревекка. Я хотел бы жить, но мне… нет больше места среди живых. Прости…
если сможешь простить. Молись за меня…
На мгновение она увидела его глазами – заснеженное поле, кровь… юноша, стреляющий себе в висок…
опустилась на колени: - Не гони… позволь хотя бы… одну ночь с тобой… чтобы мне было, что помнить – там,
за гранью.
Она не расслышала ответа, но ей показалось, что слово было произнесено – шепотом, шелестом, - «останься».
Стать счастливой – хоть еще на одну ночь – забыть про ожидающего где-то за дверью коменданта, про
туманную сырость раннего лета в Петербурге, про уже почти подписанный приговор Верховного Уголовного
суда, про виселицу, которую уже почти построил непутевый гарнизонный инженер Матушкин. Она останется –
всего на одну ночь. На целую ночь, которая превратится для нее сегодня в вечность оставшегося ей ожидания,
которая станет для нее целым миром, сжавшимся в одну точку, колыбелью нового мироздания, - но она
останется…
- Во имя любви твоей… нарекаю отныне вас мужем и женой и да будет благословение божие на вас во веки
веков во всех мирах… и встретитесь вы после срока своего за рекой времени…
Руки, губы, голос. Каменные плиты, исчезающий свет. Последняя ночь – первой прожитой жизни… И если она
была счастлива в ту ночь – то оттого, что смогла хоть на мгновение сделать его – счастливым…
… Девушка, гордо подняв голову, медленно вышла из камеры.
- Долго вы, барышня, долго, - укоризненно посмотрел на нее комендант. – Обещали две минутки, а пробыли
все двадцать, а то и тридцать минут, чтобы не соврать. А ведь мне и попасть может, – неужто желаете зла
старику? Ну, колечко я, пожалуй, все же возьму у вас – в возмещение за волнение пережитое, ну да вы не
огорчайтесь, барышня… Небось папаша новое купит. И поезжайте домой поскорее – небось ждут-не
дождутся вас там родные, красавицу такую… и жених ждет, небось… А это что же такое у вас, сударыня-
раскрасавица?
Она проследила за его взглядом. Темное платье, обтягивавшее ее высокую грудь, медленно набухало тяжелой,
сытно пахнущей влагой – струйка молока побежала на пол…
- Благодарю… вас…
Когда она уходила, ей послышался голос – издалека, из-за толщи каменных стен – его было невозможно
услышать, но она услышала и запомнила:
- Мы еще встретимся…
…Горела в огне долина Ард-Гален…
Женщина идет. Она ничего не ждет и ничего не ищет. Она просто идет – и пространство и время
расступаются перед ней.
…По широкой пыльной дороге идет невысокая девушка-шатенка в лазоревом плаще: блестящая ткань,
развеваясь, бьется невиданной птицей за ее спиной. По небесной дороге идет высокая темноволосая женщина
– черный, как ночь, плащ окутывает ее плечи. По звездной дороге идет маленькая хрупкая блондинка – черно-
красный плащ – гордое сочетание цветов, знак беды и отчаяния - обнимает ее тонкую фигурку. Так идут они:
молча, цепочкой, не оглядываясь, - и скрываются далеко-далеко, за едва розовеющим краем горизонта. Заря
ли? Или, быть может, наоборот, закатный тихий вечер? Потерян счет часов – мир застыл вне времени и
пространства… Трое уходят ввысь по затерянной в пространстве дороге – а следом за ними – еще и еще
невнятные, еле различимые силуэты…
- Не уходите! Не оставляйте меня! – кричала она, и ветер свистел, бился в ее коротких волосах –
навсегда отрезанные косы. – Надя! Таня! Надя-ааааа! Не ходите этой до-ро-гой! Не… -
Но они ее не слышат – не услышат никогда – здесь у них другие имена, а она забыла, забыла…
Невысказанные слова на губах… «Я… люблю… вас…»
Она кричала и рвалась наружу, разрывая потоки и слои и опаздывала, опаздывала, опаздывала…
Лазоревый плащ – сияющее солнце. Черный… черно-красный… расплавленное золото. Она шла по дороге одна
и не заметила, как стеклянная стена раздалась перед ней.
Женщина стояла на коленях на выжженной дотла равнине Ард-Гален – красный цветок рос у ее ног, - и
плакала от счастья. Ее мир – раскрывшийся невиданной панорамой, чувством полета, кружащейся песней
ветра. Застывшее бледное солнце. "Прощена". Наконец-то, последним уходящим даром: прощена. И он – он
шел к ней ровными прямыми шагами, и от него пахло живым теплом и свежим ароматом хвои, непонятно
откуда взявшейся здесь, пахло топленым молоком и только что выпеченным, чуть подгоревшим хлебом…
Пахло домом. Обретением. Надеждой. Надежда окрасилась в долгожданный цвет рассветного золота, окутывая
ее незримым облаком. А слезы все текли и текли по ее лицу, когда она – решилась сделать шаг навстречу.
… Запах гари… кровь… кровь на ладонях… Виселица.
Ее… мир?!
Там, за толстым стеклом стоял ребенок: в джинсах, в просторной – навырост, - немецкой курточке –
золотились в неясном свете чуть вьющиеся пшеничные волосы. Широко раскрытый взгляд недетских светлых
глаз…
- Мама… мамочка…
- Твой… сын…
Она повернулась…
"Изъявил, что раскаивается только в том, что вовлек других, особенно нижних чинов, в бедствие, - но
намерение свое продолжает почитать благим и чистым, в чем бог один судить его может и что составляет
единственное его утешение в теперешнем положении…"
(Из старинной рукописи, записанной неизвестным мироглядом. Ориентировочное время действия – земной 1826 год, однако
возможны расхождения между черновиками и каноническими текстами…)
… Асфальт, покрытый первым тонким предательским ледком – скользят каблучки ботинок. А в глазах за
толстыми стеклами очков застыло – серым свинцом осеннего низкого неба – что? Ожидание? Предчувствие?
Знание?
Женщина торопится на работу…
- Отдел маркетинга и закупок внешнеторговой фирмы «Дориат»… Говорите! Нет, не расширяем
ассортимент… Что такое? Особенно интересное предложение? Высылайте по факсу! По факсу, говорю, я
вас сейчас пошлю! Что? Жевательный мармелад «Черниговцы»? И праздничные наборы-ассорти в
коробках «Эльф в шоколаде»? Пожалуй… перед Новым Годом… Образцы привозите! Должны же мы
знать, что это за дрянь вы нам предлагаете? Как это – чего образцы? Образцы эльфов в шоколаде, я вам
говорю! Можно в темном, можно в молочном, можно – с орехами… И обязательно в подарочном
оформлении! Нет, не мне… я из другого отдела, мне разве что диабетических эльфов – на фруктозе.
Менеджеру по кондитерским изделиям… зовут как? Сергей… Сергей Иванович, я вам говорю. Вот,
напротив меня сидит… что? Сейчас переключить? Нет его, вышел… позвоните позже… через двадцать
минут… или нет – он у нас в командировке. Через неделю позвоните… через месяц… через эпоху… через
границу… позвоните когда-нибудь!
Она улыбается и молча смотрит через стол напротив. Снимает очки – стекло мешает ей сейчас. Короткие
гудки. Так же улыбаясь, медленно кладет телефонную трубку на рычаг.
Октябрь-ноябрь 2001
Примечания
1) СЕ, ОК, СК – известная классификация Остогера. Согласно этой классификации, фэндом различается по своему
отношению к Арде. Выделяются две противоположных (шкала ОК-СЕ) и две промежуточных категории.
ОК (объективные креационисты) – это классическая позиция «Толкиен всегда прав». Эти люди исповедуют создание
Толкиеном вторичного мира Арда и при этом считают, что в своем акте творения Толкиен не допустил никаких ошибок или
неточностей. Иначе говоря, мир Арда принимается на веру в качестве текста (Толкиновского)
Противоположная позиция – СЕ (субъективные экзистенциалисты) – люди, верящие в реальность существования Арды
помимо сознания Толкиена. Следовательно, Толкиен рассматривается не как Творец мира, а как визионер-наблюдатель,
который в своем описании мог допускать ошибки, неточности и личные пристрастия.
СК (субъективные креационисты) – позиция редкая и промежуточная, в чистом виде практически не встречающаяся.
Сторонники такого подхода склонны считать творцом Арды все-таки Толкиена, но при этом не готовы признать
безошибочность его описаний и суждений.
Четвертый вид – ОЕ (Толкиен описал реально существующую Арду, при этом описал без ошибок) – теоретически
возможен, но на практике не встречается.
Разумеется, существует масса промежуточных вариаций, не вписывающихся в классификационные рамки. Героиня этого
рассказа – то ли СК, то ли СЕ – в зависимости от вариативности собственного сознания.
В оформлении рассказа использованы строчки из стихов и песен – Марины Цветаевой, Юлия Кима, Натальи
Васильевой, Таисии Турсковой, Наталии Некрасовой, Екатерины Лебедевой. Название рассказа также нагло
украдено мною у Таисии Турсковой.