 |
“Если бы Соловьев писал мемуары...” (Лирико-документальное эссе) |
  -фэндомский цикл -по мотивам Толкина -из старой прозы       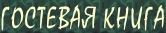    |
Эпиграфом к этому рассказу можно взять песню В.С.Высоцкого “Всю войну под завязку...” (“Песня о погибшем летчике”) - всю, от первого до последнего слова. Например, вот это: “...Я за пазухой не жил, Не пил с Господом чая, Я ни в тыл не стремился, Ни судьбе под подол; Но мне женщины молча Намекали, встречая: Если б ты там навеки остался, Может, мой бы обратно пришел...” Для меня не загадка Их печальный вопрос, - Мне ведь тоже не сладко, Что у них не сбылось! Мне ответ подвернулся: “Извините, что цел! Я случайно вернулся, Ну, а ваш не сумел...” |
2
...Легка ли жизнь человека, пережившего гибель всех своих друзей? Не на год, не на два, - на сорок лет? Ах, незавидная это участь, уверяю вас, и может быть, иной в такой ситуации дорого отдаст, чтобы только поменяться судьбой с погибшим. Особенно, если еще ощущаешь свою долю вины за их участь (обоснованно или нет, - не важно). Кстати, заметим здесь, что угрызениями совести мучаются, как правило, люди невиновные, а вот те, кому бы и вправду задуматься, обычно спокойно спят по ночам.
Конечно, вы можете сказать, что за сорок-то лет человек новых друзей приобретает. Так-то оно так, а все-таки...
А с чего, спросите вы, с чего ты взяла, что штабс-капитан Черниговского пехотного полка барон Вениамин Николаевич Соловьев несуществующей своей виной мучался? Где эти его муки документально зафиксированы? Ведь своих-то мемуаров он не оставил, кроме разве что одного отрывочка, переписка тоже не сохранилась?
Так может, не было?
Не было - было: не знаю, право, - экие же вы дотошные. Позвольте и мне маленькую фантазию.
3
Итак, барон Соловьев... Папаша его в Рязани был владельцем трех крепостных душ, и он, Веничка, всю жизнь сам пробивал себе дорогу, тянул армейскую лямку. Семь лет проходил в поручиках и только в 1825, меньше, чем за полгода до рокового срока, получил чин штабс-капитана и свою роту. Зато барон... Сколько же это нелепое баронство породило политических спекуляций, - дескать, и в восстании не так активно участвовал, и на этапе менее тверд был, и заговор в Зерентуе не поддержал, - все из-за своей “дворянской ограниченности”. Кем-кем, а героем он и вправду не был, - тихий, маленький, аккуратный человек. Таким он изображен и на позднейшем портрете работы Николая Александровича Бестужева в Сибири - худое, невыразительное лицо, веснушки, встрепанные усики... Некрасив, неблестящ, необразован, - он никогда не был первым, всегда терялся рядом с теми, погибшими... Личная жизнь? В 70 лет он умер в Рязани старым холостяком. Политические убеждения? Да не было их, похоже, вообще. Хоть и был он членом Общества Соединенных Славян, но, кажется, и вступил туда “за компанию”, и в роковой заварушке, именуемой “восстанием Черниговского полка”, участвовал тоже за компанию. А мемуары он не писал, вероятно, просто потому, что не умел, - та единственная сохранившаяся от него записочка, корявым языком изложенная, не привлекает внимания ученых мужей, померкнув перед цветистыми, героизированными записками И.И.Горбачевского. Его голос слаб и тонок, но тем уникальнее он, что остался наш герой, на свою беду, уже в 1828 году фактически единственным живым свидетелем событий. А все остальное, что появилось, могло быть записано уже с его слов.
4
А может быть, он не писал мемуары не потому, что не умел, а потому все-таки, что больно было вспоминать? Может быть, потому дожил он до 70-ти лет, и с собой не покончил, и с ума не сошел, и не запил горькую, что ни разу за сорок лет не потревожил свою память, не тронул ту ниточку, которая, разматываясь, вдруг свивается в петлю и душит человека? “Да и зачем вспоминать, право? - мог думать он, - Что было, то было, и вряд ли кому-нибудь вообще это теперь интересно”. Погибших не воскресишь, а ему нужно было жить. И он жил. Честно. Наверное, люди его уважали. Участвовал в подготовке крестьянской реформы, работал в земельном комитете. И на склоне лет нуждался, между прочим - известно, что подавал “прошение о вспомоществовании”. И до конца своих дней оставался таким тихим и незаметным, что даже точно неизвестно, когда умер - не то в шестьдесят шестом году, не то в семьдесят первом...
5
В 1826-1828 годах он потерял троих (или, может, четверых, но о четвертом сведения столь скудны, то даже сказать этого с определенностью нельзя: жил человек - и не стало. А какой был, с кем дружил - Бог весть...): самоубийство, казнь, снова самоубийство. Мог ли тихий Веничка спасти их? Да нет же, конечно. Да попытайся он это сделать, отшвырнули бы его пожалуй, отбросили бы в сторону без особой жалости. А он пытался, робко, но пытался, а что слышал в ответ? - А вот, например, что: “Оставьте меня действовать по своей воле, я вас не замешаю”. Неистовым да Пророкам не до тихих, маленьких, преданных им людей. Все так. Но Веничка этого, вероятно, не знал. Он-то ведь не с Пророками дружбу водил, а с людьми, с офицерами своего же полка, между прочим, - какие там, к черту, Пророки?!
Так-то вот и выходит, что вся его жизнь дальнейшая превратилась вот именно в такую пытку вечного оправдания - за то, что он, бедолага, не сделал, мог бы сделать, должен был сделать, обязан был сделать... Он был хороший товарищ, Веничка Соловьев.
6
Почему-то при слове “декабрист” нам сегодня представляется в первую очередь этакий блестящий гвардейский офицер, желательно, кавалергард, который, вроде как у А.А.Галича, “пьет вино, как воду” и кричит что-то про “тиранов”. Может быть, в столице что-то похожее и было, хотя тоже сомнительно; но вот в провинциальной глуши, в армейских полках, расквартированных на Украине, все было проще и грубее. Пили, конечно, но вероятно, не вино, а водку, а может и крепкую сивуху, - народ-то закаленный. Из компании офицеров, собирающихся по вечерам у поручика Анастасия Дмитриевича Кузьмина, только один - новый батальонный командир Сергей Иванович, а вскоре и просто Сергей, - “столичный да образованный”. Но и он не кричит ничего про тиранов, а если кто и кричит, так это молоденький да глупый дружок Сергея Мишель, служащий в другом полку, которого лихая компания тут же невзлюбит. И причиной тому, пожалуй, даже не сам юный олух - что с него взять-то? - а ревность. Да, обычная ревность, потому что влюбятся четыре офицера (а среди них, напомним, наш Веничка, да Анастасий Кузьмин, да Иван Сухинов, да еще тот, четвертый, о котором почти ничего не известно, кроме имени - Михаил Щепилло) в своего батальонного командира сразу и навеки. И, не будучи еще отнюдь членами одного тайного общества и даже не зная о таковом, уже готовы за Сергеем “в огонь и в воду” Да и как, право, не влюбиться, если красив он, и легок, и глаза синие, и поет, по отзывам современников, прекрасно и, вообще, по Веничкиным словам (в том самом отрывочке) “душа полка”.
Ах, Вениамин Николаевич! Куда как лучше для Вас было бы обсуждать с ратными командирами поручиками Петиным, Маевским и прочая, и прочая, прелести Васильковских барышень, чем связываться с синеглазым Пророком-искусителем, “глаголящим во имя Господне” (о чем ты, Веничка, впрочем, едва ли догадываешься). А Сергей, конечно же, знал силу своего обаяния, потому и не принимал “своих” ни в какое общество - зачем, если и так пойдут? Так что и до сих пор еще идут споры - в каком все-таки обществе состояли эти ребятки, Южном или Славянском? Кто и когда их туда принял? Горбачевский уверяет, что состояли они ко времени Лещинских лагерей в Славянском Союзе уже два года, но верить ему в такой ситуации вряд ли можно. Не только потому, что это противоречит материалам следствия, но потому, главным образом, что, зная Сергея, невозможно и помыслить себе, что четверо ЕГО офицеров без ЕГО ведома состояли в каком-то там еще, неизвестном Сергею Ивановичу, обществе. На следствии Вениамин Николаевич и Иван Иванович покажут, что приняли их в ЮЖНОЕ Общество соответственно поручики Кузьмин и Щепилло осенью 1825 года (правильно, поди спроси их теперь), черниговского полка капитан Фурман припишет честь принятия друзей себе, а Сергей напишет, комментируя начало восстания в полку: “сих офицеров я приглашал к себе как членов славянского общества, на которое надежду имел”. Вот и разберись. Впрочем, какое это имеет значение? Тебе то, Веничка, не все ли равно, в каком тайном союзе состоять, лишь бы “со товарищи”? И ты вряд ли задумался над такими конспиративными тонкостями, и только радоваться мог, что такой высокой честью тебя, маленького и скромного, почтили, и что с обожаемым командиром, которому ты, Веничка, в рот смотришь, тебя уже особые узы соединяют...
Но не все же такими покладистыми, как ты, быть. Друзья твои, узнав, что С.И. скрывал от них что-то, пришли, судя по всему, в бешенство. Горбачевский описывает последовавшую сцену, пожалуй, со свойственными ему преувеличениями, но все же более или менее верно, как участник событий; хотя именно это присутствие Горбачевского (то есть человека постороннего), вероятно, сильнее накаляет страсти, вплоть до обещания “Взбунтовать не только полк, но и целую дивизию”, “найти дорогу в Петербург и в Москву” (это уже с пеной у рта), и наконец, в качестве заключительного аккорда: “нам не нужны такие путеводители как ты и... тут он взглянул на Сергея Муравьева)...” На этом патетическая сцена прерывается и далее Горбачевский с некоторым недоумением отмечает: за сим последовало примирение”. Ибо как же это можно - примириться после такой вот милой беседы, когда впору хоть на дуэль друг друга вызывать? А несостоявшиеся дуэлянты после ухода Горбачевского, вероятнее всего, еще и кинулись друг другу на шею.
Вот так-то, господин и товарищ Горбачевский, в следующий раз вы не будете совать нос не в свое дело. А странная компания продолжит жизнь по своим законам, прочим “братьям-славянам”, вероятно, не ведомым.
А Веничка наш, как мы уже сказали, конечно же, не участвует в этих ссорах.
Может, Веня, ты даже разнимал спорщиков, по особой своей покладистости? Может, когда и уберег любимого командира от пущенного ему в голову чего-нибудь тяжелого? И “Верховная Дума”: которую с такой настойчивостью требовали показать Иван Иванович и Анастасий Дмитриевич, тебя тоже не интересовала? И когда тебя в списки какие-то идиотские включали “желающих пожертвовать собой для общества и одним ударом освободить Россию от тирана”, ты ведь тоже не спрашивал - куда, зачем?
Напрасно, дружок, все это ты совсем напрасно. Потому как не мог ты не заметить, что вместо того, чтобы почтить тебя особой доверенностью за таковую преданность, Сергей явно оделял особой благосклонностью неистовых твоих товарищей.
Сергея, вполне осознававшего свою власть над этими людьми, можно понять в его предпочтениях: ведь если Иван сегодня кричит, что изрубит на куски Мишеля, то завтра он и вправду изрубит того, кто осмелится до него, Сергея, не так дотронуться. Ну, а Веничка, - не изрубит. А новоявленному Пророку такая форма поклонения, вероятно, лестнее, чем тихая Венина покорность, к тому же один смотрящий ему в рот - Мишель - у Сергея уже есть.
Вы скажете, лестно-то - лестно, а всет-таки ведь попытался он перевести Ивана в другой полк, да еще и дать ему недостающие деньги на обмундирование, только тот не пожелает уехать? Да и в записочке своей предновогодней Сергей как-раз Ивана-то вроде бы к себе и не приглашал, но тот по собственному почину припрется? Вот тут тоже масса разногласий и политических спекуляций: сами Сергей Иванович и Иван Иванович на следствии утверждают едино: не приглашал. Горбачевский и Вадковский в позднейших мемуарах со слов Соловьева - приглашал. Сам Вениамин Николаевич - записка была послана лично на имя Ивана, а тот уже пригласил всех остальных. Светлой памяти Милица Васильевна Нечкина - не приглашал из-за политических разногласий”. Оксман в комментариях к записке Соловьева - не приглашал, так как не знал, где И.И. находится. Все? Кажется, все, если исключить версию Матвея, что его брат вообще никого к себе не вызывал, а все четверо офицеров взяли и “неожиданно” приехали.
Впрочем, это нам сейчас не очень и важно, тем более, что в собственных своих показаниях на следствии Иван заявит, что “с самого определения его в Черниговский полк пользовался особенным подполковника Муравьева расположением и разными благодеяниями”. Главное для нас сейчас иное, а именно вот что, - ревновал ведь ты, Веничка? Да, да, не отпирайся, ибо ревность твоя даже в записочке видна: “Обладавший такими качествами, - пишешь ты, - Сухинов сразу обратил на себя внимание”. Вот так - он обратил, а ты, Веня, не обратил. Обидно тебе? Еще как, наверное, обидно. Но ты не расстраивайся, дружок, - если ты хотел быть подле Сергея, могу тебя успокоить - на твою долю еще выпадет это сомнительное счастье...
7
Что ты делал дальше, Веничка? Ну, о том, что по первому же зову Сергея ты вместе с другими бросишься в Трилесы, даже и упоминать не стоит. Но вот, к примеру, в Трилесах - что призошло, Вениамин Николаевич? Плохо помните? В собственноручной записочке одно, у Горбачевского и Вадковского, с ваших слов писавших, другое, на следствии показывали третье... Нехорошо-с... Так что же из вас пятерых, вопрошаю я в 1991 году, участвовал в избиении злополучного полкового командира Гебеля и кто прекратил сие безобразие?
Собственная версия Соловьева в воспоминаниях совпадает с тем, что показывал Сергей на следствии: четверо приехавших в Трилесы офицеров, пишет В.Н., “нанесли Гебелю 13 ран, множество ударов и оставили изнеможенного только тогда, когда Сергей Муравьев, выскочив в окно, прибежал к ним и обратил их внимание на обстоятельство большей важности”. О том же свидетельствует и Матвей, но с единственной целью - доказать, что его брат “ни сном, ни духом” ни о каком восстании не помышлял.
Но тем интереснее, что Горбачевский, придерживавшийся в общем-то сходной с Матвеем теорией, только с противоположным знаком, пишет со слов Соловьева нечто совершенно обратное: В.Н. “вбежал в комнату, и не нашед в оной Муравьевых... бросился к выбитому окошку, из коего к крайнему удивлению увидал Сергея Муравьева во дворе, наносившего тяжелые удары ружейным прикладом по голове Гебелю... Вид окровавленного Гебеля...заставил Соловьева содрогнуться”. Вот тут, пожалуй, можно тебе, Веничка, поверить: содрогнуться - это в твоем стиле. Что касается Сергея, то вряд ли он на следствии сознательно выгораживает себя - вероятнее всего, он действительно не помнит сего постыдного эпизода: после нескольких дней судорожного метания по украинским местечкам в поисках хоть какого-то выхода: начинать-не начинать, и если начинать, то с какими силами, - необходимость окончательного решения настигла его слишком неожиданно, чтобы измученный, взвинченный человек не потерял на какое-то время контроль над собой. Кажется, кроткий Веничка действительно в том момент оттащил Сергея Ивановича, а затем и Анастасия Дмитриевича, от еле дышащего Гебеля (“просил... прекратить бесполезные жестокости над человеком, лишенным возможности... защитить собственную жизнь”), но и сам, вероятно, был потрясен так, что в позднейших своих рассказах путается. Характерна здесь еще такая деталь: “Соловьев, оставя Гебеля в руках своих товарищей, спешил освободить арестованных Муравьевых...” (фраза, в комментариях не нуждающаяся. Можно еще удивиться тому, что Веничка со своими робкими мольбами пощадить несчастого, сам не попал под разъяренный удар...
8
Верил или не верил В.Н. в успех восстания? Во всяком случае, на всем протяжении похода он пытался не просто ободрять своих солдат, но еще и поддерживать перед ними начинавший уже падать авторитет С.И. (“подполковник лучше вас знает, что делать”). Тихий Веничка ничем не выдаст своего растущего смущения перед мечущимся и отдающим все более противоречивые приказы Сергеем - только ли из уважение к старшему чину обожаемого друга или потому, что все уже понял и не хотел причинить лишней боли? Честный и верный товарищ, владел ли он той инстинктивной чуткостью, которая дается не каждому и которая дороже преданности? Хочется верить, что владел...
Он до последней минуты оставался в строю. Даже принимая во внимание невысокую достоверность с чужих слов записанных, беллетризованных рассказов Горбачевского, я все-таки верю и сегодня, что ты, Веничка, “желая подать собою пример и одушевить солдат своею храбростью, показывая явное презрение к жизни, становился под самые картечные выстрелы и звал их вперед, но все было тщетно”. Вот тут-то ты, наверное, и осознал окончательно, что - конец, победы не будет. А, осознав, понял, наверное и то, что был обманут - любимейшим в твоей жизни человеком.
9
О последовавшей за тем сцене свидетельств почти не сохранилось. Сам Вениамин Николаевич не пожелал вспомнить об этом, а в тех скупых строках, что записал с его слов Горбачевский, чувствуется какая-то недоговоренность. “Эскадрон гусар... окружил офицеров, оставшихся на месте... В это самое время Соловьев увидел недалеко от себя Сергея Муравьева, идущего к обозу...” Значит, в этот момент Веничка оторвался от остальных, уже арестованных, и оказался где-то на краю поля (возле обоза)? Пытался бежать? Не очень это на него похоже. Может быть, специально искал раненого Сергея?
“Сергей Муравьев был в некотором роде помешательства, он не узнал Соловьева и на все вопросы отвечал: Где мой брат, где мой брат?” Взяв его за руку, Соловьев хотел его вести к офицерам, оставшимся на прежнем месте...” - здесь впервые чувствуется какая-то не до конца осознанная вина. За что?
Может быть, дело было вот так:
10
... На краю зимнего поля их осталось двое. Двое, потерявших надежду. Они шли впотьмах, не разбирая дороги, ослепленные, опустошенные отчаянием, гневом, болью, - и наткнулись на человеческое тепло друг друга. Их руки соединились и вдвоем они опустились на снег - ослепительно белый снег, искривший на ярком солнце и больно резавший глаза. Никто не знает, сколько просидели они в этой звенящей холодной тишине без сил, вероятно, даже не узнавая друг друга. Но холод брал свое, и В.Н. первым почувствовал, что замерзает. Вскочив на ноги, он попытался поднять раненого. Сознание возвращалось, и вместе с ним - злая обида. “Проиграли, - сказал он. - Проиграли, програли!!” - он кричал, наверное, впервые в своей жизни; он не ждал ответа - это был крик в пустоту. Сергей молчал, потом все же поднялся и провел рукой по лицу друга, и узнал, узнал, наконец, - назвал его по имени. А В.Н. так обрадовался этому, что ту же забыл обиду, обман и горечь поражения, и понял, что ему надо делать, зашептал горячо: “Здесь недалеко до деревни, успеем уйти, скрыться... Пойдем, а?” - и осекся... Сергей медленно качал головой.
- Но почему же? - вскричал он в отчаянии и не получил ответа. “Иди один, - сказал, наконец, Сергей, - иди же, пока не поздно”.
Он никуда не ушел. Они снова опустились в снег и в наступающей темноте не сразу увидели, что к ним подскочили гусары...
11
Ах, Веничка, Веничка! Ну надо ли было тогда слушать тебе своего друга, едва ли осознающего, где он находится; Не разумнее ли было бы - схватить в охапку и волоком тащить до ближайшей деревни; В конце концов, бежал же Иван, когда понял, что все кончено, и все могло бы кончиться для него вполне благополучно, если бы он сам сдуру спустя два месяца не сдался властям в Кишиневе. Конечно, спрятать раненого было бы труднее, да и знали Сергея многие, не в пример нищему гусару, ну, а вдруг...
Укрыть в каком-нибудь крестьянском погребе, напоить горячим молоком, перевязать, отогреть, - и спасти... Какое это было бы счастье!..
Но когда ты, Веничка, остался сидеть вместе с раненым - ты думал, конечно, что разделишь с ним судьбу до конца. Не пришлось...
“Вместе с гусарами приблизился к ним рядовой... Отчаяние изображалось на его лице, вид Муравьева привел его в исступление, ругательные слова полились из дрожащих от ярости уст его. - Обманщик! - вскричал он, наконец, - и с сим словом хотел заколоть Сергея Муравьева штыком. Изумленный таковым покушением, Соловьев закрыл собою Муравьева”. (Горбачевский со слов В.Н.)
Этого предполагаемого бегства, спасения никогда не было. Не могло быть - скажу я теперь. Но вина эта несуществующая мучает меня и сто семьдесят лет спустя...
12
Арестантов везут в Трилесы. До сего момента Веничка, занятый Сергеем, едва ли замечал всех остальных. Но вот в сани он садится рядом с Анастасием Дмитриевич, который был “спокоен, весел, даже шутил и смеялся”, и Веничке тоже, вероятно, полегчало на душе, да так, что, даже заметив неладное (А.Д. ранен), не придал этому значения.
“Рана моя легкая, - сказал, улыбаясь, Кузьмин, - я вылечусь без перевязки и пластыря.
Веселость Кузьмина действительно заставила Соловьева думать, что рана не опасна...” Последняя фраза в пересказе Горбачевского звучит, как позднейшее оправдание.
Что же ты так, Веничка? Али плохо знал товарища, что с такой легкостью поверил ему? Тут бы тебе посмотреть повнимательнее, да и отобрать у А.Д. смертоносную игрушку, в рукаве спрятанную. Не догадался...
В Трилесской корчме разместили шестерых арестантов, из коих двое раненых (причем один из них в эти минуты прощается с жизнью, другой, кажется, без сознания), один контужен. Четвертый пребывает в состоянии хронической меланхолии. Пятый - Мишель, с которого спрос соответствующий. Двое уже окончили счеты с жизнью. Иван - в бегах. Так что выходит, что единственный, кто в эти горькие минуты находится в относительно здравом уме и твердой памяти - все тот же Веничка Соловьев. Крепко ему, бедолаге, пришлось покрутиться, помогая то одному, то другому, и где уж в этой суматохе было уследить... О произошедшем дальше у нас три свидетельства, расходящихся в деталях. Одно записано Горбачевским со слов Соловьева (и, может быть, отчасти, Быстрицкого): “Кузьмин... присел на лавку и подозвал к себе Соловьева, которого просил придвинуть его поближе к стене”. Заметим здесь, что, если человек просит его придвинуть, то очевидно, он ранен не так легко, и вот тут бы снова тебе, Веничка, задуматься, но внимание отвлекается в другую сторону: “В ту самую минуту... Сергей Муравьев - от теплоты ли огня или от другой какой-либо причины упал без чувств. Нечаянность его падения встревожила всех: все, исключая Кузьмина, бросились к нему на помощь, - как вдруг пистолетный выстрел привлек общее внимание в другую сторону комнаты...” Почти дословно совпадает с этим рассказ Ф.Ф.Вадковского, но его источники информации те же. Зато нечто иное свидетельствует Матвей Муравьев - человек, вообще не слишком щедрый на воспоминания: “Кузьмин, лежавший на соломе против меня, просил меня подойти к нему. Я ему указал на раненую голову брата, лежавшую на моем плече. Кузьмин с видимым напряжением подполз ко мне..., простился дружелюбно со мною, дополз до своей соломы и тут же лежа застрелился... От выстрела, сделанного Кузьминым, с братом повторился обморок, которому он уже несколько раз до того подвергался вследствие потери крови из неперевязанной раны...” В этом путаном рассказе неожиданно звучит сочувствие, вообще не свойственное Матвею в отношении людей, “погубивших его брата” - так, комментируя рассказ Вадковского о вышеупомянутом происшествии с Гебелем, старший брат напишет нечто о “зверской натуре сих четырех офицеров” (вот так-то, Веничка, - зверская у тебя натура!). Матвею платили тем же - Горбачевский говорит о “вредном влиянии” старшего Муравьева на Сергея...
Но в тот момент - не до личных счетов. Остается неясным: кого подзывал к себе Анастасий Дмитриевич - Соловьева или Матвея? Последнее сомнительно - ведь они едва знакомы, но, может быть, Кузьмин пытался проститься с Сергеем? Когда С.И. потерял сознание - ДО выстрела или ПОСЛЕ? В первый раз (“неожиданно”) или не в первый? А может, Матвей Иванович и Вениамин Николаевич как раз и говорят о разных случаях? Как бы то ни было, непоправимое совершилось. Сегодня мы можем лишь гадать о причинах этого самоубийства, совершенного не мальчиком Ипполитом Муравьевым, - нет, взрослым человеком, хотя, по-видимому, и очень импульсивным. Не всякому дано вынести горечь поражения, но время смягчает любую боль и - кто знает? - сколь долгую жизнь мог бы прожить А.Д., если бы пистолет был обнаружен чуть раньше...
13
На следующий день арестантов увезли в Белую Церковь и там разделили. На допрос уведут Матвея и Мишеля, словно догадавшись, что эти двое сломаются первыми. Но Сергея не трогали еще неделю, не то опасаясь за жизнь “злодея” (в рапорте начальника штаба армии генерала Толя начальнику главного штаба Дибичу в Петербург сказано, что Сергей Муравьев отправляется в сопровождении штаб-лекаря, “Дабы на пути пользовать рану его и иметь всякую предосторожность, чтоб злодея сего доставить в Санкт-Петербург живого”), не то понимая, что многого от этого человека не добьешься и рассчитывая потом предъявить ему уже собранные показания. И в течение всей этой недели рядом с Сергеем был Веничка, Вениамин Николаевич Соловьев. Ни одного свидетельства не дошло до нс, но о чем-то же должны были разговаривать все эти дни двое, повязанные уже не просто дружбой или единомыслием, но - общей бедой да кровью погибших? И косвенное подтверждение этих разговоров - эпизод в записках Горбачевского, неизвестно с чьих слов записанный и восстанавливаемых только по цепочке: “Сергей Муравьев - Соловьев - Горбачевский”; эпизод, где, узнав о своем предполагаемом аресте, Сергей предложил своему двоюродному брату Артамону поднять восстание, но тот решительно отказался...
14 декабря 1825 года не вышедший на Сенатскую площадь диктатор С.П.Трубецкой при первых картечных выстрелах воскликнул: “О, боже, вся эта кровь падет на мою голову!” Сергею, мечущемуся в январские дни 1826 года в бреду в Белой Церкви, много хуже: он сам, своею безмерной и вдохновенной властью Пророка, “глаголящего во имя Господне”, повел внимавших его проповеди людей на верную гибель, повел, ни на секунду, по-видимому, не веря в успех; он не посмел тогда ослушаться Голоса свыше, велевшего ему переступить через себя и свои сомнения, но в эти окаянные дни Голоса оставили раненого - наедине с самим собой. Страшное поражение раздавило его. И оказался не Пророк, не Спаситель, - но Человек... Просто человек, которому надо было еще выдержать полугодовое следствие, и смертный приговор, и последнюю в жизни ночь, и... И он - выдержит, выдержит в числе немногих. Но какой ценой...
Кто знает, о чем говорил в те дни, едва ли не в беспамятстве, в полубреду, синеглазый Сергей младшему другу, не захотевшему его покинуть? Слишком интимное это дело, - подслушать чужой бред, да еще в такие минуты. Просил ли прощения, так, как за час до казни попросит прощения у Мишеля? Знал ли, догадывался ли Сергей, ЧТО его ждет? Если судить по первым же его допросам, снятым в Белой Церкви, затем в Петербурге, - да, знал. И едва ли не рад был (слово, конечно же, кощунственное в данной ситуации), что за него решат, избавив его от необходимости ДРУГОГО выхода. Во всяком случае, в эти черные дни Сергей жить не хочет...
Не хочет, наверное, жить и Вениамин Николаевич, глядя на нечеловеческие эти муки. Но думать о самоубийстве - вряд ли в его характере. Друг друга в эти минуты им понять едва ли дано - каждый мучается своей виной, но Сергей, по-видимому, может думать, что Веничкина совесть чиста... В.Н. все-таки легче: подле раненого у него нет времени сосредоточиться на себе и своей боли.
Вероятно, эти дни остались самым страшным воспоминанием в его долгой жизни. Ни словом, ни намеком не упрекнет он Сергея за обман, за бессмысленно пролитую кровь, за самоубийство А.Д., за собственную изломанную жизнь, наконец... Упрекать будет себя.
Горбачевский: “... осталось без исполнения покушение возвратить свободу Сергею Муравьеву, которого... по словам Соловьева, легко было увезти через заднее окошко того дома, где он содержался: оно примыкало к жидовской корчме и близко оного не было поставлено часового”. Могли увезти - и не увезли... Зато спустя лишь несколько дней Сергея увезут в Петербург - на смерть.
14
“Он кричал напоследок,
В самолете сгорая:
“Ты живи! Ты дотянешь” -
Доносилось сквозь гул.
Мы летали под Богом
Возле самого рая, -
Он поднялся чуть выше и сел там,
Ну а я - до земли дотянул.
Встретил летчика сухо
Райский аэродром.
Он садился на брюхо,
Но не ползал на нем.
Он уснул - не проснулся,
Он запел - не допел.
Так что я вот вернулся,
Глядите - вернулся -
Ну а он - не успел”.
15
Веничку судили в Могилеве. В начале следствия он все отрицал, заявил, что поехал в Трилесы “единственно по бружбе своей с поручиком Кузьминым”, а оставался в рядах восставших потому, что “поручик Щепилла гонялся за ним с ножом”. Версия замечательная - не устроишь же очную ставку с покойником (так, арестованный уже после казни декабристов близкий друг Сергея Густав Олизар требовал: “дайте мне очную ставку с Муравьевым и Бестужевым” - и был оправдан). Но даже на простой вопрос - к кому же, собственно, ездили они “с поручиком Кузьминым” не дал Вениамин Николаевич ответа. Сергей просто не существует в его показаниях. Потом его сломали, конечно, как ломали почти всех раньше или позже, и “довели до чистосердечного раскаяния”. Его подлинного следственного дела не сохранилось, только делопроизводственный пересказ в “Докладе Аудиторского департамента” (где слова “злодей”, “злодеи” повторяются чуть ли не по нескольку раз в одном предложении), так что теперь трудно судить, до какой степени простиралось “раскаяние”; но один несомненный факт отметим - Сергею, ведущему в Петербурге неравную борьбу со следствим и удерживающемуся в этой борьбе на уровне, недоступном большинству узников, не предъявят уличающие его показания Соловьева. И уже за это - спасибо... Зато предъявят показания Ивана, воротившегося из бегов, - о пропаганде, которую вел Сергей среди солдат III корпуса... Всегда горько читать откровенные показания кого бы то ни было, но вдвойне горько, когда свидетельствует против тебя человек близкий, бывший рядом до конца. Каждое слово в этих показаниях - правда; только вот зачем она теперь?.. Сергей отвергнет свидетельства Ивана.
Да не упрекну человека, принявшего спустя два года такой конец; отмечу лишь - тихий, скромный Веничка оказался, по-видимому, устойчивей своего неистового друга...
16
Их осудили на вечную каторгу, обвели еще вокруг виселицы с прибитыми к ней именами погибших при разгроме восстания. Наверное, где-то в эти же дни получили они известие о казни в Петербурге. Хорошо, наверное, что Венички в те дни не было со всеми в Петропавловской крепости. Впрочем, это вряд ли что-нибудь изменило бы: позже, в Сибири, пришлось ему, очевидно, выслушать немало подробностей о прошедшем действе, в коем Сергей был едва ли не главным участником. Счастье еще, что не было там Цебрикова, сидевшего рядом с осужденными в последнюю ночь и оставившего об этом восторженные воспоминания, но и без него недостатка в свидетелях не было. Как мог реагировать В.Н. на подобные рассказы? Затыкал уши?
Не мог же не знать он, и не мог бы сказать другим, сколь любил жизнь синеглазый его батальонный командир, как шел по ней красиво, легко и уверенно, щедро одаряя других ясным своим теплом и высшим смыслом и, конечно, менее всего мечтал о героическом восхождении на эшафот...
После известия о казни Веничка подавлен, Иван - озлоблен...
17
Полтора года, “в одной рубашке и халате” он шел по этапу: пешком, вместе с уголовниками. Валялся в жару в Московской пересыльной тюрьме, едва оправившись, должен был идти дальше... В июне 1827 г. сенатор князь Куракин, встретившись с осужденными, записал о твоих, Веничка, “искренних и истинных угрызениях совести”: “Он не позволил себе ни одной фразы, ни одного слова... даже извинения, чтобы уменьшить свое преступление... Один вид этого несчастного доказывает искренность его признаний, так как он не мог ни слушать меня, ни мне отвечать, не обливаясь слезами”. Князю Куракину, однако, вряд ли ведома истинная причина “угрызений”...
Наконец, в марте 1828 года пришли они к месту назначения.
Тут бы и хватит с тебя, Веничка, маленький герой моего рассказа. Куда уж еще? В конце концов, и в Сибири люди живут, и такому тихому, работящему, наверное, человеку, - как не заняться хозяйством, например? Вот ведь и домик с огородом купили на троих... Хороший был домик-то, а, Веничка? И кассу общую завели... Только стали из кассы денежки пропадать, да сказать об этом товарищу ты из деликатности врожденной не решился...
18
Все дальнейшее подробно описано у Горбачевского и у самого В.Н., и нет смысла пересказывать здесь невеселый этот рассказ. Все просто - одна живая душа не выдержала неволи... Но если рассказ Горбачевского о трагической гибели Ивана Сухинова окружен неким ореолом героического романтизма, то собственноручная Веничкина записка проще, обыденнее и оттого еще страшнее. “Когда все заснули, он... сделал петлю и удавился почти в лежачем положении... Наутро заметили висящее тело... в коем были еще признаки жизни...” Что же ты, Веничка, тогда - закричал? Потерял сознание? Вряд ли... Скорее просто отмерло в твоей душе что-то в тот момент - уже навсегда.
Живого еще Ивана, не сумевшего даже повеситься как следует, положили на ледник...
“Если бы у Соловьева и Мозалевского были деньги, - пишет В.Н., - можно было бы добиться другого исхода суда”. Ах, Веня! Сколь наивны твои самообвинения. Конечно, деньги тоже вещь хорошая, но ведь главное-то в другом: не убедил, не убедил, не докричался! Все знал, видел, к чему дело идет - и не докричался.
“Оставьте меня действовать по своей воле, я вас не замешаю...” И верно - не замешал. Военный суд признал Соловьева непричастным к заговору ссыльнокаторжных в Зерентуйском руднике. Вот только - жить-то как дальше?..
19
Всю жизнь он был готов прийти на помощь, подставить плечо... И всегда, - такова уж была его горькая участь, - опаздывал на дни, минуты, секунды... Нет, не решимости ему не хватало, - если б нужно было, он бы храбро встал за любого из друзей под пули... Просто он, наверное, чего-то не понимал в этой странной жизни, что знали трое ушедших, что не определяется никакими словами... Он оказался единственым нормальным человеком - среди обреченных.
20
“Я кругом и навечно
Виноват перед теми,
С кем сегодня встречаться
Я почел бы за честь.
Но, хотя мы живыми
До конца долетели,
Жгет нас память и мучает совесть,
У кого, у кого она есть.
Кто-то скупо и четко
Отсчитал нам часы
Нашей жизни короткой, -
Как бетон полосы.
И на ней - кто разбился,
Кто взлетел навсегда,
Ну а я - приземлился,
А я - приземлился, - Вот какая беда”
Март-апрель 1991 года.